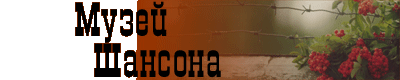А между тем я есть!

С его песнями я и мои сверстники познакомились в начале пятидесятых. Послевоенные пацаны из подвалов и полуподвалов, из воронежской разрухи, уцелевшие в артканонадах и бомбежках, уже превозмогшие холод и голодуху, мы жадно хватались за песни и стихи. Нам нужны, просто необходимы были приключения и фантастика. Нам хотелось большего, чем наша скудная действительность. Нам хотелось быть Тарзанами и Робин Гудами из трофейных кинофильмов. Перефразируя Михаила Светлова, без необходимого мы жили, а без лишнего — не могли.
Мы уже читали (шепотом, вполголоса) Есенина. На "толчках" и барахолках мы были непременными перехватчиками толстенных граммофонных пластинок да рентгеновских пленок с записями. И крутили на первых послевоенных "Рекордах" Петра Лещенко, Вадима Козина и, конечно, Александра Вертинского. И грезились нам далекие теплые моря и загадочные страны.
Слухи обо всех наших кумирах ходили разные, но толком мы не знали ничего конкретного ни о ком.
Вот и представьте себе всю глубину шока, постигшего меня от совершенно неожиданной встречи с живым Вертинским. В 1956 году март в Воронеже повернул на зиму. Завьюжил, забросал сугробами. Как-то вечером, продираясь сквозь снежную мглу по узенькой окраинной улице, я заметил афишку клуба авиационного завода, где значилось имя: "Вертинский". Казалось бы, давно уже став легендой, певец навсегда ушел в прошлое. А тут вдруг: "Начало в 19 часов". Видимо, просто совпадение фамилий? Да нет же, вот и партию рояля исполняет Михаил Брохес, его постоянный аккомпаниатор... На бегу прикидываю, как проникнуть в клуб, ибо все билеты наверняка проданы. Однако билеты в кассе есть...
Этому концерту, равно как и многим сотням других, предшествовало возвращение Александра Вертинского в СССР. В 1943 году. После 25 лет эмиграции. Кочуя вдоль неприступных границ своей Родины, Вертинский непрерывно стучался в наглухо закрытые двери, обращая к родному дому много взывающих к милосердию горестных и прекрасных песенных строк. В 1943-м, вслед за письмом, которое Александр Николаевич отправил на имя наркоминдела СССР Вечеслава Молотова, разрешение на въезд было наконец получено. Без мнения Сталина на этот счет дело обойтись, конечно, не могло. "Пусть допоет!" — распорядился вождь. В репертуаре Вертинскому оставили 30 песен, а выступать посылали на угольные шахты, в маленькие заводские клубики. Ни рекламы, ни рецензий, ни слова в прессе...
Приведем письмо, в отчаянии написанное Вертинским в 1956 году (за год до смерти) тогдашнему заместителю министра культуры СССР С. Кафтанову.
"...Лет через 30 — 40, я уверен в этом, когда меня и мое "творчество" вытащат из "подвалов забвения" и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романса, как Гурилев и Варламов, это письмо, если оно сохранится, будет иметь "значение" и, быть может, позабавит радиослушателей какого-нибудь тысяча девятьсот... затертого года!
Почему я пишу его? Почему обращаюсь к вам? Не знаю. К вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально.
Но я не вижу никого, к кому бы я мог обратиться с моими "вопросами". Где-то там наверху все еще делают вид, что меня нет в стране...
А между тем я есть! И очень есть!
Меня любит народ! (Простите мне эту смелость.) 13 лет на меня нельзя достать билета!
Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят: "Спасибо, что вы приехали! Мы отдохнули сегодня на вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир — мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека! И которого у нас нет пока".
Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень "советское", нужно кому-то и, может быть, необходимо...
Все это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего прибавить не может.
Но я русский человек! И советский человек. И я хочу одного — стать советским актером. Вот я и хочу задать вам ряд вопросов:
1. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я?
2. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству?
3. Почему нет моих нот, моих стихов?
4. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу.
Верьте — мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и глубоко равнодушен. Но странно и неприятно знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей Родине!.."
Это письмо не надо комментировать. В нем все — и отношение правителей страны, и безвыходность настоящего русского интеллигента...
Но кто он, Вертинский, и откуда? Юный Саша Вертинский, с большими амбициями, не найдя признания в родном Киеве, решил отправиться в Москву. Шел 1910 год. Москва пила, пела, веселилась. Этот веселый угар и богемная молодежь легко приняли Александра.
В ариетках (так называли в афишах его номера), где он выступал в костюме Пьеро с набеленным лицом, бушевали мечтательность и патетика, страсть и нежность, окрашенные мягкой иронией. В Москве он очень быстро стал любимцем публики, появлявшимся в немом кино в ролях то элегантного антиквара, помогающего роману крепостного и помещицы ("От рабства к неволе"), то художника из мира богемы ("Дочь Нана"), то бывшего архитектора, ставшего бродягой ("Король без венца").
...Вертинский не принял власти большевиков и в 1920 году подался в дальние края. Долгие годы с паспортом на имя греческого гражданина Александра Вер-тидаса странствовал он, появляясь то в Нью-Йорке, то в Париже, то в Шанхае. Песни писались где придется: на пароходах в Средиземном море и Атлантическом океане, в Палестине и на Гавайских островах, в Париже, Нью-Йорке, Бухаресте, Варшаве, Шанхае... И было в них море тоски. 19 января 1941 года в том же Шанхае написано:
"Я живу. Я жить могу без веры,
Только для искусства одного.
И в моих глазах, пустых и серых,
Люди не заметят ничего".
На его концертах бывали сливки всего мира: король Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, король Румынский, Ротшильды, Морганы, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Чарли Чаплин. Многие из них русских слов не понимали, однако шли, прилетали издалека. Слушали, смотрели и долго аплодировали. Значит, было за что.
Сам Александр Николаевич в Первую мировую совсем молодым какое-то время работал в военном госпитале. На его счету было тридцать пять тысяч перевязок.
Весь мир знает Вертинского. Менее всего — Россия. Вот лишь маленький вопрос: кто позировал скульптору Сергею Дмитриевичу Меркурову, когда тот работал над памятником Достоевскому, кото рый так хорошо знаком москвичам? А позировал-то Вертинский, и было это в 1913 — 1914 годах. Памятник стоял на Цветном бульваре в Москве, но в октябре 1936-го "в связи с прокладкой трамвайного пути" монумент перенесен во двор музея-квартиры Достоевского по улице, носящей имя писателя...
Ну а что же воронежский концерт?
Зал был полон. На сцену вышел высокий старик в ладно скроенном коричневом костюме, задумался, как бы что-то припоминая, назвал песню, потом запел. Скорее, заговорил. Грассируя и немного с прононсом. Надтреснутый, рыдающий, трагический тенор. Голос слабый...
Волнуясь, я все оглядываюсь на задние ряды: поймут ли, примут? Ну не все же его знают или хотя бы слышали о нем. И есть такие лица, на которых прочитывается удивление, дескать, что это нам подсунули... Певец затих. В зале оживление, хлопки. А он стоит отрешенный, о чем-то думает. Кажется, ему не до нас... Контакта с залом не ищет. Во всяком случае, не заигрывает. Улыбок, изящных поклонов нет. Он прикрыл глаза и, кажется, силится вспомнить что-то очень далекое.
Исполнение песни начинается с объявления ее названия, которое он сам, без конферансье, делает очень артистично. Вот он всмотрелся и где-то там, за стенами маленького зала увидел... В молдаванской степи... И свет таборного костра полыхнул на лице, и пламя метнулось в глазах...
Я не уловил момента, когда был покорен зритель. Безоговорочно покорен. Но с третьей-четвертой песни было так: затихает последний звук — громовые аплодисменты! Обрываются так же резко, как и начались. Артист объявляет песню, и все подались вперед. Тихо-тихо. Правее меня, где-то двумя-тремя рядами дальше, кто-то заерзал в кресле, и оно заскрипело. Этот скрип чуть отвлек артиста, помешал. Он приостановился на самое короткое мгновение, чуть заметно досадливо поморщился. И в зале все гневно повернули головы в сторону виновного...
Руки... О его руках я слышал и раньше. Говорили, что они колдовские и обладают гипнотическими свойствами. Сухие и смуглые. Длинные аристократические пальцы, во всяком случае, так кажется, когда руки повисают над залом и начинают колдовать. Они что-то как бы рисуют, плетут кружева, что-то ловят, отбрасывают. Жесты то контрастируют со смыслом и ритмом песни, то его поддерживают и неуловимо оттеняют. Сам исполнитель будто исчезает. Остаются голос и руки. И тогда мы видим мужественного капитана, кокетливую девушку, любовь, юность.
Его песня богаче стиха. Много богаче. У него в какие-то моменты вообще отсутствуют слова. Руки сами скажут то, чего нельзя сказать словами...
Танго "Магнолия" исполнялось перед антрактом. Пел и плакал океан, и караван птиц уходил в даль, и лето, и любовь уходили в мечту. Это руки взлетели над головой и унеслись далеко-далеко, и стало пусто и страшно. Вспыхнули аплодисменты... Перед нами стоял старик, глаза прикрыл и, кажется, силился вспомнить что-то очень далекое и важное.
...Я вышел в фойе покачиваясь. Хотелось говорить, с кем-то поделиться, и я подошел к группе курящих. Люди незнакомые, разных возрастов. У меня вертелось на языке, но эту фразу сказал пожилой мужчина: "Вы знаете, он просто голову закружил этой своей "Магнолией".
Во втором отделении Вертинский как-то устал, сник. Пел о бренности житейской, об ушедших временах. В конце спел очень лирично и трогательно о своих доченьках — единственной радости своей, о подходящей смерти. Просил на могилу розы.
Через год его не стало.
Бывая на Новодевичьем, я неизменно прихожу к его могиле. В изголовье — сцена, а по ней годы рождения и смерти и черный крест. По белому занавесу: "Александр Вертинский". Все заключено в ободок черного мрамора в форме крышки рояля. И розы.
Помнят ли его? Если есть розы, значит, помнят. Кинорежиссер Леонид Трауберг однажды привел фразу из своей беседы с Дмитрием Шостаковичем: "Ты понимаешь, что такое Вертинский? Он в сотню раз музыкальнее нас, композиторов".
Вертинский не оставил после себя ни школы, ни учеников. Мир, о котором он пел, канул в вечность. Но отчего-то и у тех, кто его лицезрел и слушал тогда, и у тех, кто сегодня слушает в записях, сокровенные струны русской души отзываются на его голос невыразимой грустью.
Я, автор этой публикации, всегда был против подражаний. И Вертинского, и Высоцкого, и Окуджаву теперь пытаются петь другие... Но ведь копия, даже самая удачная, никогда не сравнима с оригиналом. Другое дело — Вертинский. Он мог без каких-либо подражаний усилить тоску даже великого Есенина, что он и сделал, переписав по-новому знаменитое, "прощальное", стихотворение Есенина и положив на музыку:
..До свиданья, друг мой, безруки и слова -
Так и проще будет и нежней.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Авторство на пластинках так и обозначено: Сергей Есенин и Александр Вертинский. Прекрасное стихотворение, еще прекраснее песня в исполнении Александра Николаевича...
Он навсегда ушел от нас 21 мая 1957 года. В гостиничный номер "Англетера" (того, Есенинского) заказал рюмку коньяка (прихватывало сердце), но не дождался. Наступило бессмертие.