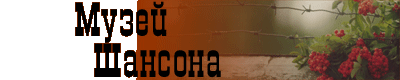Голосовой нерв
(о песнях Александра Жданова)
Во времена глубокого духовного обморока, в котором пребывали люди конца шестидесятых - начала семидесятых годов, родилась альтернатива официальной культуре - самодеятельная песня. Это было не первое, и не второе рождение жанра: трубадуры, барды и менестрели охотно заполняли пространство культуры в эпохи ее вынужденного подполья. Это было и противостояние глухому молчанию тех, кто не хотел мириться с воцарившейся в мире полуправдой, кого не устраивала декорированная бодрыми лозунгами социальная повседневность.
В наши дни мы стали свидетелями редкой ситуации, когда на эстраде, по радио и телеканалам, в домашнем кругу и на площадях больших и малых городов слышны голоса певцов нескольких поколений. Интонации Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого звучат на одной высоте с голосами певцов, родившихся в конце сороковых - начале пятидесятых, а эти последние вплетаются в еще непривычные для нас голоса тех, кто родился в шестидесятые годы.
В этом пестром песенном многоголосии все отчетливее определяет свои контуры творчество Александра Жданова, который возрастом принадлежит к среднему поколению певцов, а смыслом своего песенного энтузиазма - классической традиции и самой актуальной современности.
Быть наследником классической лиры ответственно и опасно. Это наследие отмечено высоким состраданием малым мира сего, оно составляет опору национального предания, в нем - завет отечественной культурной памяти. Есть память жанра и память голоса, есть рискованный дар жизненного артистизма, противостоящий обыденной ролевой игре в жизнь. Есть наследование артистического жеста, которым на ноги подымают зал, и есть умение трагического вживания в героя песни. Наконец, есть в профессиональной оглядке на традицию (страшный и веселый) риск разделить участь ее создателей, потому что сама идея жизненного риска входит в состав традиции. От "бездны мрачной на краю" до "хоть немного еще постою на краю!" живет в русской поэзии это жутковатое самоутверждение над пропастью (столь далекое от богемной эстетики смерти и столь близкое отечественному ощущению реальности как непрерывного Армагеддона).
Лирические песни-новеллы А.Жданова - в их внутренней голосовой напряженности - возвращают нас ко времени классического романса.
Это странный жанр: жалоба, молитва и заклинание; внезапно освещенный уголок памяти, из которого наплывают на нас мучительно знакомые силуэты, милые тени.
Самая высокая, самая чистая лирика неизбежно превращается в романс. Многие стихи А. Жданова минули переход от слова к его музыкальной огласовке и сразу родились в камерном уюте романсных ритмов с той же естественностью, с какой волна набегает на берег. Школа романса для А.Жданова - это не просто дань слишком близко лежащей традиции; это стало школой вокальной примерки, а исполнительства - к тексту.
Ни играть, ни петь Александра никто не учил, поэтому ему, как автору по преимуществу, остается то, что остается всякому автору наедине с материалом: слух, интуиция, ощущение слушателя - весь ненадежный в отдельности и нехитрый в целом инструментарий ремесла, который Вл. Ходасевич называл "поэтическим хозяйством". Но песни-стихи Александра Жданова, рожденные доверием слуховой догадке и музыкальной гипотезе, вынесенные на интонационном жесте навстречу нашему вниманию, - эти мгновенно запоминающиеся песни рождены энергией подлинно творческого порыва.
Это песни доверия; в них ожидание надежды и возможность отпрянуть от края бездны, такой притягательной. В них есть приглашение к горькому глотку свободы. В них есть личность, искусившаяся опытом самопознания и уставшая ловить свои неверные отражения в кривых зеркалах внутренней рефлексии. В них есть попытка преодоления самого черного из путей - пути одиночества.
Камерная песня широкой известности, как правило, не приносит; она в ней и не нуждается. Песни А. Жданова ждала популярность (поймем это слово в буквальном переводе на русский: "публичность", "народность"), когда они превратились в музыкальное эхо социальной событийности. Песни афганского цикла, не раз исполненные в коллективах людей, вернувшихся с войны, вызывали однозначную оценку: их мог написать только свидетель и соучастник событий под Гератом. Автор там не был и быть не мог. И все-таки он там "был" в том специально творческом смысле присутствия, которое порой много подлиннее фактического (исторического) присутствия. Так Пушкину, не бывавшему в военных стычках, удалось пережить их в эстетической подлинности стихотворства.
Вот эта эмоциональная подлинность переживания и превращает афганский цикл А.Жданова в историческое свидетельство нашей национальной трагедии, которая, как всякая большая беда, складывается из "малого": дерзание - гибель - сознание непоправимости - горе матери - скорбное предстояние друзей.
Гражданские песни А. Жданова можно было бы назвать историко-политическими ретроспекциями: в них осмысляется далекое и близкое прошлое нашей Отчизны в его неизбывной трагедийности.
Надо ли удивляться тому, что песенная лирика такого типа ставит, среди прочего, и классическую тему поэта, поэзии, творчества? Поэт в нашей истории - фигура трагическая (и в бытийном, и бытовом плане). Дуэль с мертвым бытием - такова жизненная позиция отечественной поэзии. Когда поэт выходит на дуэль с изобретательной и всемогущей Ложью, все порядочные люди становятся его секундантами. Но они не станут выполнять главной задачи дуэльного обряда - примирить противников. Дуэль поэзии и неправды - не ритуал, а принцип жизни. Когда у человека нет другого способа бытия, он становится поэтом, бардом, он превращается в голосовой нерв своего народа.
Из предисловия к сборнику песен
Александра Жданова, 1989 г.
|