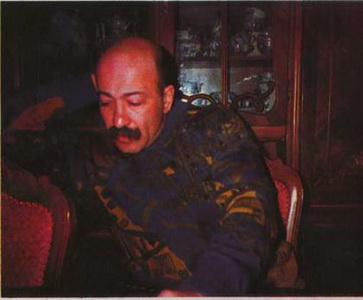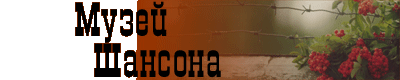С гитарой в руках, с ангелом за спиной
Народный артист при перемене ветра
— Для многих вы — певец любимый. А кто-то Розенбаума вообще за певца не считает... Но факт: популярность к вам пришла давно. А что теперь, когда, как говорится, "пришли другие времена, взошли другие имена"? На себе вы это уже успели почувствовать?
— Крупные имена время не смывает. Меняется мода, а слава неизменна. Вот, остался же Кобзон, осталась Пьеха, остался Лещенко — я сейчас говорю о своем "цехе". И это справедливо. Потому что высококлассным профессионалам перемена моды не страшна. Ее должны бояться бабочки-однодневки, их, увы, всегда много не только среди тех, кто работает на сцене. Так уж в нашей сумасшедшей стране сложилось. Оттого и заполонили все "порнуха", "голубизна", духовное убожество, дилетантизм... Но профессионалы — дело другое. Кобзона можно любить или не любить, соглашаться с ним или осуждать в чем-то, однако его высочайший профессионализм не боится перемены ветра в моде.
— А как вам под этим ветерком?
— Я тоже остался. Как меня не любили чиновники при власти — левые, правые, в полоску или в клеточку, — так и не любят: им со мною неудобно. Понимаю, почему: я же вижу, что даже вчерашние демократы сегодня, извините за выражение, скурвились. Я вижу, что они нынче продали и предали то, о чем еще недавно вслух мечтали, ради чего выступали, звали за собой... Мне Зюганов понятнее: он хотя бы последователен. Поэтому вполне могу выпить с ним кофе...
— Или водку...
— ...Водку я не пью уже год и три месяца. Но выпивать с новыми начальниками? Неет. Я как был в оппозиции, так и пребываю, не хочу иметь с руководством этой страны ничего общего. Не верю я тем политикам, кто перекрашивается, кто в пятьдесят пять лет за один день или за недельку меняет убеждения. Вот и пою:
Извините, что, как встарь, я не в фаворе
У имущих власть влиятельных друзей.
Пять лет назад я бы такого не написал: я был тогда не в фаворе у врагов — тоже, между прочим, влиятельных.
Ежик в кабинете министра
— А когда-то Окуджава мечтал: вот у его друзей появятся кабинеты, они выйдут в начальники, "и станет легче жить". Теперь настало их время, они осели в кабинетах, вон, Татьяна Никитина стала заместителем министра...
— Да-а... А пела когда-то про ежика... Помните, "с дырочкой в правом боку"? Вот нынче времечко, а? Хотя Никитины и Окуджава еще дружат... Моя ситуация покруче: друзья имеют кабинеты — и очень большие, но стали бывшими друзьями. А нормальным людям легче жить не становится... В личном плане? Я — народный артист Советского Союза, даром что нет уже такой страны и такого звания. Но я себя народным артистом ощущаю — и не стыжусь об этом заявлять. А когда почувствую себя "народным дерьмом Советского Союза", тоже скажу. И — сойду. Вообще-то мне официальное почетное звание вроде бы не нужно. Хотя, откровенно говоря, хочется. Потому что любому человеку, наверное, хочется, чтобы его труд был оценен не только в деньгах. А на заслуженного я не согласен: какие в творчестве могут быть ступеньки?! Смешно, что мои же знакомые начальники бумаги на это звание для меня уже пару лет подают, дескать, тут и вопроса нет. Однако и движения нет. Бумаги где-то лежат, а друзья-чиновники с энтузиазмом кивают: "Санек, об чем разговор? Само собой, все путем!" Но нет пути. А мне, знаете ли, это очень нравится. Так и должно быть — с ними, при них.
— Но ведь именно они позволяют или запрещают моде развернуться. И, значит, вашей популярности тоже.
— Я радуюсь, что прошла именно мода на Розенбаума. Но остались огромные массы людей, десятки миллионов, которые приходят слушать именно меня, — а не поглазеть на модное имя, не поприсутствовать при скандале. И хотят послушать "Гоп-стоп" или "Нинка, как картинка, с фрайером живет", но главное, они знают, что еще услышат на этом же концерте песни про войну, лирику, "Афган", казачье, еврейское, "Вальс— бостон"...
Джинн из бутылки
— И все же странно, что человек с фамилией Розенбаум, никогда не отказывавшийся от своей национальности, не говоривший, что он — "сын русской и юриста", сумел еще в застойные годы забурлить, пробиться...
— Да просто джинн выскочил из бутылки. Когда я только начинал профессионально работать на сцене, довелось выступать на сцене ДК имени Дзержинского, где репертуар подбирался без согласования с Управлением культуры. Там все решали сами — и мне разрешили спеть на трех концертах по пять песен. Ладно, ответил я, но предупредил, что могут быть неприятности... Напечатали афиши. Народ дивился: магнитофонные— то пленки уже ходили по стране, но думалось, что Розенбаум — эмигрант, в двадцатые годы не то в Париже, не то в Австралии померший... А тут — вот он! Я такую толпу видел раньше только в кино. Размолотили двери, выбили окна... Аншлаг! Но мне исполнилось уже 33, уже пять лет врачом в "Скорой помощи" отработал, и мозги уже были не набекрень: хоть и обрадовался, что людям мои песни нужны, но к себе-то я уже трезво относился... Короче, на следующий день разрешили спеть пятнадцать песен — тут— то джинн и вылетел из бутылочки, обратно его туда не затолкаешь. Хотя еще в течение пяти лет я пел при "глухой" афише: объявлялись "авторы-исполнители на эстраде", но фамилий не указывали. И публика быстро догадалась: раз афиша "глухая", значит, Розенбаум. Ну, потом все пошло, как у всех: концерты отменяли, меня арестовывали, пластинки не пускали, то ОБХСС, то КГБ... К слову, однажды как раз ленинградские "комитетчики" меня от тюрьмы и спасли, объяснили, где надо, что я не вор и не враг народа...
— ...А просто Розенбаум? Но и эта "говорящая" фамилия могла стать поводом для приговора Александру Яковлевичу Розенбауму...
— Почему фамилию я не менял? Не стал, к примеру, Александровым или Яковлевым... Вот сейчас я гадаю: а как бы поступил, если б тогдашние начальники мне пообещали разрешение на концертную деятельность — в обмен на смену фамилии? Не знаю... Не уверен, что там же не плюнул бы им в лицо — и ушел бы, и гордо замолчал бы... А кому моя такая гордость нужна? Нет, не знаю, как бы себя повел, но и предложения такого не поступало. А может быть, и согласился бы: какой ты певец, если молчишь? Да, не очень благородно, ну, киньте в меня камнем...
Выбор участи
— Вообще-то об антисемитизме я знал, но на самом себе его не ощущал — ни в школе, ни во дворе. А я в детстве был абсолютно дворовым, у нас нравы простые были. Ну, а если и были какие-то единичные случаи, если я и слышал в свой адрес "жидовская морда", в морду же и бил. Дрался, кстати, я неплохо, все-таки кандадат в мастера спорта по боксу...
— А попутно так еврей Розенбаум стал и казаком...
— Причем казаком из Кубанской донской первой сотни, заметьте. Меня туда не партия и правительство назначило, меня туда, в свои ряды, простые люди приняли. Чем и горжусь. А если мои песни — про казаков или про евреев — рождают отклик у эстонской или русской, у таджикской или американской публики, то потому, что я никогда не был выкрестом, не отказывался от своей еврейской крови. Самое страшное в жизни — это предательство. И еще зависть. Но они взаимосвязаны. Я не предавал ни своей национальности, ни своей Родины. Примечательно, что меня эмигранты как раз и не очень жалуют — хоть в Штатах, хоть в Израиле... Хотя те же мои соплеменники, по-моему, должны мне памятник поставить — за то, что меня казаки любят. Потому что через меня они дышат чуть просторнее, чем могли бы без розенбаумовских песен. И казах, и русский, и литовец, и украинец видят, что я — нормальный еврей. Такой же, как он — нормальный казах или нормальный русский, литовец, украинец... То есть человек.
— Какой-то странный интернационализм...
— Никогда я не был интернационалистом. Вообще это слово — для меня ругательное. Его придумали нехорошие люди — для того, чтобы оправдать свои противоправные действия по отношению к другим. Людь и нелюдь — вот что для меня существует на этой земле. И все. И я понимаю, почему те же русские люди не прощают, когда еврей кричит на всю Ивановскую, что он — русский. И они, по— моему, тут правы.
— Но вы-то сами? Поете по-русски, живете в России, пишете казачьи песни...
— Вы тоже, кстати, пишете по-русски. А я какие песни сочинять могу? Еврейскую музыку я начал писать совсем недавно, потому что только недавно начал слушать ее. Те мои песенки из как бы еврейского быта — лишь стилизация, там подлинно еврейского не так уж и много. Хотя их очень люблю, считаю своей удачей. Даром что написал их в двадцать один год, мальчишкой. Бог, что ли водил тогда моей рукой? Или ангел стоял за спиной?.. Но я с моим музучилищным образованием только теперь стал понимать, что "Семь сорок" или "Хава нагила" — не еврейская музыка. А настоящая еврейская — это сложно. Это синагогальная, канторальная музыка, чтобы ее сочинять, надо многому научиться сначала. Ведь только барды у нас готовы писать все, что угодно... Если бы я родился в Грузии, я бы писал "Сулико" — и был бы грузинским евреем, а родившись в Молдавии, писал бы для ансамбля "Жок"— и был бы молдавским евреем. Но я — абсолютно российский человек еврейской национальности. Я не целовал землю в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион, не на ней я родился, но у Стены плача сердце вздрогнуло... И все же я пошел бы защищать Израиль, эту страну моих далеких предков. Как помню, что приносил присягу на верность СССР. Ха! Там, на земле обетованной, меня спросили, воевал бы я за свободу Израиля с автоматом Калашникова или с "узи"? Но это спрашивал, наверное, какой-то опупевший от дешевой пропаганды, к тому же не слишком грамотный. И я — майор медицинской службы в запасе — ответил, что "узи" хорош только в ближнем бою, а на дистанции он против Калашникова — палка. Так нет же, им нужно, чтобы я в любом бою работал с "узи", пусть бы погиб из-за него, никакой пользы не принеся, но зато как верный патриот... Я не таков. И что интересно: мою песню "Черный тюльпан" из времен афганской войны нормальные люди везде слушают, затаив дыхание. Потому что народ — он и в Африке народ. Его на дешевке не проведешь. Может, оттого и с фамилией у меня — вот так? И кстати: мне смешно, когда антисемиты все наши российские беды сваливают на еврейские головы:
Сейчас во всем винят жидомасонов.
О господи, какая ерунда!
Сто человек надули миллионы?
Так что же за народ вы, господа?!
«Кадиллак» совести не помеха
— Перед нашим разговором я перечитал анотации к вашим пластинкам. На одном из конвертов Жванецкий написал, что "Розенбаум — настоящий мужчина и настоящий профессионал". Мне это кажется высшей похвалой, люблю настоящих мужиков, к тому же асов в своем деле. Однако у нас как-то не принято оценивать по половому признаку...
— По-моему, профессионал — это тот, кто хорошо делает свое дело и занимается только им. Нашу страну погубили дилетанты... Я никогда не хотел, чтобы про меня говорили: "Розенбаум — лучший певец среди врачей". Или: "Он — лучший врач среди певцов". Ненавижу внештатных журналистов: любое внештатничество — это любительство, дилетантство. А дилетант не надежен. И часто — злобен. В человеке для меня ценны три вещи, только три: доброта, профессионализм и отсутствие зависти.
— Вы-то сами — человек независтливый?
— Абсолютно. Я же состоявшийся профессионал. Работай, делай свое дело классно, иди вперед. При чем тут, какая тут может быть зависть? А для мужчины, если уж к нашему с вами полу переходить, я считаю, счастье — не в семье, а в работе. Если мужик на работе не "кайфует", то никто ему не поможет. Как только он к юбке притрется, значит, все: он — уже убогонький. Я счастлив потому, что "торчу" от любого своего концерта. Мне говорят, мол, так яростно работать нельзя, ты себя убиваешь, но я-то иначе не могу, мне так — в радость. Я даже не для публики это делаю, я просто "кайф ловлю" от работы. И вообще, как это — выйти и "отбыть номер"? Ужасно! Возражают: сорвешься, нельзя так много петь, по два с лишним часа подряд, еще и "живьем", не "под фанеру"... Но люди-то принимают мои два с половиною часа за тридцать минут! И невозможно показать все, что ты хочешь, за часик с четвертью... Сегодняшние "фонограммщики", конечно, не вспотеют за свои три концерта в день — но ведь это не работа, а видимость ее. Так не раскрываются, так прячутся. А мне от своих слушателей прятаться — зачем?
— Песня для вас — это исповедь? Или проповедь?
— И то, и другое. Проповедь тоже важна. Хотя мне столь четко делить — не с руки. Я просто иногда чувствую, что вот, написал — и эта песня уйдет в народ. А вот эта... Ее публика еще должна будет догонять, не скоро примет...
— Однажды знаменитый эстонский композитор Густав Эрнесакс сказал мне: "За песнями надо ходить пешком". А ваш ленинградский актер и худрук Игорь Горбачев заметил: "Актер на работе должен быть голодным". Вы с ними согласны?
— В один из моих приездов в Америку владелица той корпорации, в которую входила и студия, где я напряженно записывался, предложила мне отдохнуть дней пять на ее вилле во Флориде. Чудесненько! Вилла — 250 акров земли, понятно, бассейн, на лужайке вертолетная площадка, все прочее... Отдыхаю. Но она настоящая американка, выписала мне туда прекрасный рояль: а вдруг я подойду к инструменту, возьму четыре-пять нот? А это же будут ее "бабки"! Но мне захотелось. Должен вам сказать, что такой музыки я не писал никогда, таких прекрасных гармоний я прежде просто не мог в себе расслышать. Это к вопросу, надо ли быть творцу голодным? Чушь! Да, мне тут удавалось кое-что: "Вальс-бостон", к примеру, "Глухари", тот же "Гоп-стоп" или "Только шашка казаку..." Но то, что я сочинял на том рояле... Нет, здесь это не услышится... Там думаешь о другом, не о быте, не о том, что надо то-то и то-то достать, там нет, как здесь, решеток на окнах от воров... А ваш маэстро Эрнесакс... Думаю, за песнями можно и в "Кадиллаке" ездить, не в способе передвижения дело. И кстати, жизнь наблюдать из "Кадиллака" приятнее, чем из автобуса: больше видишь. Да, гораздо лучше поэту смотреть на мир из "Кадиллака". Если у него есть совесть. У поэта, естественно, а не у "Кадиллака"... Я удивляюсь: почему не жирею? А? Вон, глядите, Собчак, Шахрай... Их, скажем для печати, физиономии уже в телевизор не влезают... А не так-то давно лица были! Теперь Собчак в ресторане женит Пугачеву с Киркоровым... Нормально? Для них нормально. Но я в их "тусовках", где, как я недавно написал, "расстриги властвуют КПСС-ные", — не участвую. И не поеду петь на Васильевском спуске — вроде бы для поддержки демократии, а на самом-то деле для того, чтобы хапнуть квартиру поближе к президенту... Я и тут, на Черной речке, проживу.
— Да уж! Хотя местечко тут у вас не из самых светлых в российской культуре. А может, оно и ничего? Я замечаю: чем ближе поэты к власти, тем меньше они — поэты. Холуйство стихам, по-видимому, не способствует.
— Вот-вот. Потому я и говорю о совести. А "Кадиллаком" — пусть он будет у каждого — все же сыт не будешь: надо из него и выходить, ножками среди людей топать. Тогда совесть зажиреть не позволит.
— Вы, Александр, кажется, барон?
— Ага, барон. Г-н Брумель из Российского монархического общества пожаловал-с мне это звание. Барон Розенбаум! Ну-ну... Барон Розенбаум из Санкт-Петербурга. Ленинградской области, между прочим. Ничего себе, да?
— Но вы живете — где в Ленинграде или в Петербурге? В каком городе вы себя ощущаете?
— Я считаю Ленина самой гениальной личностью нынешнего века. Он — негодяй, но это же не отменяет его гениальности? И город, его именем названный, тем же городом и остался. Да какой он Петербург?! Ленинград! А санктпетербуржцев — последних, вымирающих — я вижу в Нью— Джерси, в одном местечке под Парижем, в Канаде... Мальчик Пущин, потомок декабриста, пишет моей дочери-девчонке: "Милостивая государыня Аннушка!" И в конце просит передать "поклон Вашим маменьке и папеньке"... Блин! Так вот же где настоящие петербуржцы живут. А не тут, в ленинской "колыбели революции", где карьерист, шкурник сейчас балы закатывает — на свой лабазный манер... И наши "просвещенные умы" им еще подхлопывают.
Все говорят —
Никто не хочет слушать.
Без женщин? Катастрофа!
— Когда вы читаете эти стихи мужчинам, я понимаю, они злятся. А женщины? На ваших концертах их много... Но ведь "эпоха артистов-кумиров" теперь, сдается, прошла. Вам ее не жаль?
— А я об этом не думаю. Но знаю: когда женщины утратят интерес ко мне, — это конец. И не только потому, что я — артист: всякий мужчина должен чувствовать на себе женские взгляды. Иначе он не мужчина...
— И жена ваша, Александр, думает так же?
— Мне кажется, да. Она ведь со мною — и тоже живет в моей профессии. Так что должна понимать. Хотя это и сложно.
— А вы сами — сложный человек?
— Только в силу работы. Сложно, конечно, со мной, никуда тут не денешься. Как, наверное, со всяким, кто творчеством занимается. Плюс еще мое — вот такое, какое есть, — положение в этом обществе... Но она старается. Прожили ведь мы как— то девятнадцать лет, верно? А выходила она замуж за студента, к тому же из медицинского института, а не из консерватории... Дочка у нас, ей скоро восемнадцать... И бультерьер пяти лет... А женский успех? Дешевых поклонниц у меня нет, пожалуй, и раньше не было, на лоскуты с меня одежду не рвали, я в этом никогда и не нуждался. Есть, правда, паратройка сумасшедших, но я же доктор по первой профессии, понимаю...
— Так-таки с молодости и неважно, любят вас женщины или не любят, а только уважают за талант?
— В молодости был период, так сказать, "спортивный". Но он не с профессией был связан, а именно с возрастом. У каждого мужчины в биографии он значится. Из этого потом вырастаешь, вот и все. Уже давно меня больше устраивает, когда после концерта на сцену подымаются мужчины с цветами, с крепким рукопожатием. А если еще и дед с орденами на пиджаке — вот тогда я рад безмерно. Но катастрофа, если тебя совсем разлюбят женщины, тогда жизнь кончена. А я бы еще пожил. И попел бы еще.