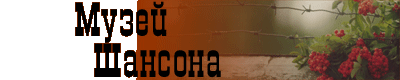«Дожидаясь улыбчивых дней...»
Когда сельский батюшка отец Иоанн Смирнов крестил младенца Сергия, то сказал маме и бабушке: «это будет добрый, хороший человек».
Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.
В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.
Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.
Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».
Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.
Принимаю—приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
1925 год
Есенин рос сиротой, в доме деда и бабушки, и всю жизнь потом искал не любовных приключений, как это принято считать, а материнского тепла и ласки. Все женщины, которых он любил, кроме Софьи Толстой, были старше его. Этого же материнского участия он наивно ждал и от Родины. Уезжал, улетал, бродил по свету и возвращался — в холод.
Наши деды помнили: за стихи Есенина можно было пострадать, как за веру. Родители наши никогда не забудут, как переписывали его стихи в заветные тетрадочки, мешая слезы с чернилами.
Есенин был дан России в утешение в канун самых смутных лет ее истории. Так дают на дальнюю дорогу краюшку хлеба: «На, пожуй... маленько крепче будешь».
Семнадцатилетний Есенин пишет другу, такому же мальчишке: «Да, Гриша, люби и жалей людей— и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей... Все люди — одна душа». (Из письма Григорию Панфилову, 23 апреля 1913 года.)
Братья мои, люди, люди!
Вcе мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан Млечный Путь...
И как его еще могло хватить на столько лет сочувствия всему живому, если вспомнить, в какие годы он стал поэтом! Мировая война, мировая революция, мировое озверение. .. А он плачет о всякой твари, о примятой траве, о жеребенке, о погасшем до утра солнышке. И все в его стихах плачет, и не ясно, откуда столько слез в одной душе.
Плачет метель, как цыганская скрипка. Плачет тальянка, плачет веселая флейта, осень листвою плачет на песок, плачут дети, собаки, овцы, лошади, и звезда над ними горит «рыдалистою дрожью неотлетевших журавлей».
Когда я приезжал к бабушке на лето, она, встречая меня на пороге, всегда плакала. А я всегда немножко пугался ее слез и утешал: «Ну что ты, бабушка, все же хорошо...» И тогда она говорила: «Я плачу не от плохого, я плачу от хорошего».
У Есенина тоже все плачут от хорошего или от жалости к этому хорошему.
... Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
Есенина уже переводили на европейские языки, а в деревне кликали Серегой, и даже местные учителя ни разу не попросили его выступить в школе, прочитать стихи. Мать переживала, что он не стал председателем волисполкома.
При жизни почти никто не знал его отчества. После смерти отчество тоже вспоминали редко. Он так и остался в русской литературе Сережей. Есть у нас Александр Сергеевич, есть Лев Николаевич и Антон Павлович. А еще есть Сережа. Очевидцы вспоминают, что хоронили его под крики: «Прощай, Сережа!..» Люди чувствовали: ушел человек, пожалевший их невероятной, пронзительной жалостью. И с тех пор мы так просто находим в его стихах то, чего сам он так и не нашел, — утешение, ласку и домашнее, материнское укрытие.
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я не в силах скрыть своей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь...