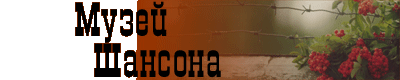Владимир Шиленский: «Комната перевернулась, и я побежал по потолку»

Очередной праздник города благополучно завершился, но отдельное мероприятие в рамках празднования хотелось бы выделить особо. Помимо народных гуляний и всевозможных культурно-массовых мероприятий, организованных правительством Москвы, наряду с многочисленными концертами, спортивными и бытовыми развлечениями, вновь прошел конкурс, и состоялось награждение авторов лучших песен о нашей столице. Одним из победителей стал Владимир Шиленский. Коллектив журнала искренне поздравляет лауреата, желает дальнейших успехов и надеется, что данное событие благотворно отразится на его поэтическом пути. Специально для журнала Володя поделился своими впечатлениями о состоявшейся церемонии награждения и о том, через какие «тяготы и лишения» пришлось пройти конкурсанту, прежде чем оказаться в десятке лучших.
— Владимир, в одном из первых номеров журнала «Шансон — Вольная Песня» текстами твоих «песенок для взрослых», как ты их называешь, мы открыли рубрику «Поэтический полигон». Стихотворение называлось «В городе этом». В сентябре на конкурсе песен о Москве за произведение «В городе этом» ты получаешь специальный приз правительства Москвы. В октябре выходит альбом и называется он также «В городе этом». Как давно ты начал сочинять в этом городе и что этот город вручил тебе в качестве приза?
— Я начал сочинять стихи в четырнадцать лет, еще через четырнадцать стал придумывать песенки, и вот, спустя еще четырнадцать, появляется первый альбом. На радиостанциях мои песенки звучат с 2002 года («Алмазный бизнес», «Кадиллак цвета кокаина», «Блюз окраин», «Лондон», «Пока я не остыл»). Их исполнял Олег Дикий. Через год другие песенки запела Катерина Голицына («Духи с ароматом свободы», «Пропащая русалка», «Непрошеный гость», «Золотой самородок»). За последние пять лет, уже в моем исполнении, двадцать вещей вошли в несколько десятков сборников. Но если учесть, что у меня около трехсот текстов, а аранжировки сделаны пока лишь на тридцать... Но претензий ни к кому нет. Есть грандиозные планы. То, что мою песенку «В городе этом» заметили на конкурсе «Дорогая моя столица», как раз нечастая, увы, победа духа над деньгами.
— Так чем тебя наградили?
— Цветочки, вазочка, диплом. Но главное-то — возможность спеть перед москвичами в День города. Я пел «Пятиэтажку» и в «Городе этом» на площадке Северного округа на Речном вокзале (вживую), и на Тверской (правда, уже под «плюс» и только «В городе...»). Особенно радовалась моя матушка. А сама песенка была записана на студии еще весной, так что специально для конкурса я, конечно, ничего не писал. Появление же моих текстов в «Поэтическом полигоне» говорит о высоком профессионализме и порядочности сотрудников вашего журнала. Очень важное для меня событие, — появление этого интервью. У меня многое в эту осень впервые. Может быть, пришло время. А так живу — делаю, что должно, и будь что будет. Сейчас записываю третий альбом, собираю живой состав...
— Ну, хорошо, двадцать восемь лет ты пишешь слова, а еще чем занимаешься?
— Я слова читал, пытался стать культурным. Мне было интересно, как менялся человек от эпосов и религиозных доктрин до наших дней. Я искал принципы, ориентиры. Все, что мы пишем — это внутренний диалог, твоя реакция на мир, и, о том, как важно понимать, что правит этим миром, кто ты и откуда. А еще в том веке я был учителем русского и литературы, младшим научным сотрудничком музея Маяковского, сторожем, сезонным рабочим, дворником, книгоиздателем, директором рекламного агентства, консультантом по маркетингу и рекламе, пресс-секретарем еврейского культурного центра, а в этом веке я безработный поющий поэт Владимир Шиленский.
— Вернемся к твоему альбому. Почему — «В городе этом»? Ты закоренелый горожанин, урбанист? Если да, то откуда взялась песенка «Золотой самородок »? Тайга, Байкал, побег...
— Мысль моих любимых даосов «Великий путешественник никогда не выходит со двора» была мне еще не известна, когда в один из весенних дней 1985 года я, студент-вечерник госпедвуза им. Ленина, 22-х летний поэт и младший научный сотрудник музея Маяковского, вдруг услышал (впервые в жизни) внутренний Голос.... С внутренними голосами не спорят, это, на мой взгляд, созревшие в подсознании очень важные, судьбоносные для человека решения. Я ушел из музея и взял в институте академотпуск. Так началась для меня пятилетка путешествий. В Москву я приезжал в ноябре на зимовку и покидал первопрестольную в мае. Это было хождение в народ. Проверка литературных ценностей жизнью. Самоидентификация себя. Попытка почувствовать страну и, как выяснилось позже, прощание с империей. Я был странник, дервиш. Я держал путь. Путь лежал через Орджоникидзе и Тбилиси по Военно-Грузинской дороге вдоль Большого Кавказа, к Баку, через Каспий в Туркменистан, через Каракумы в Бухару и Самарканд, в Киргизию, в предгорья Памира и Тянь-Шаня, и через Казахстан на Алтай. На Алтае в районе Телецкого озера я обосновался довольно плотно. Это был настоящий Джек Лондон и «Одиссея» Гомера! Так что, у меня не случайно кроме «Золотого самородка» есть такие таежные социально-приключенческие песенки как «Мадам Виолетта», «Ягода морошка», «Мишка косолапый», «Стая диких гусей»... А так я москвич во втором поколении. Я клеточка этого города, одно из его окон. Я говорю, что пишу городские песенки. Да! «Легкими прокуренными воспою Москву — улиц загогулины у меня в мозгу!». Но это не мешает мне остро сопереживать красоте людей и природы. Ах, какая осень стоит! Мое любимое время года...
— Володь, давай про осень. Кусочки из твоих песенок.
— «Здравствуй осень, вот и я! Здравствуй, рыжая моя — яркая, янтарная, осень календарная!», а заканчивается «... сломанная, ржавая, осень — ты душа моя».
«Покраснели на осинах парики, сколотили журавли последний клин, я живу теперь в мансарде у реки, пью вино, смотрю в окно или в камин...» «Перед тем, как у сердца остановится бой, дайте мне нахрустеться этой желтой листвой». «Осень. Утро в инее, и синеет высь. На ладони линии все переплелись». «Эта осень горела кострами, не жалея шального огня, но на душе будто кошки насрали, вот как было в душе у меня». «Ржавеет в сарае скелет лисапета, гитара сырая и песенка спета». «Осенние осы пустых площадей, осенние осы надежды моей, осенние осы — усмешка дождя, осенние осы ужалят меня». «Мишка косолапый по лесу идет — шишки собирает, песен не поет. До морозов первых должен он успеть, потому на нервах осенью медведь». Песенка «Осень в раю» есть в альбоме («Осень стоит в раю, осень боготворю. Осень — уже видна жизни пустой длинна»). «Осеннее солнце не ярко, зато уродилась боярка, накрасила губы рябина, да так, что в глазах зарябило». «Наркоз промокших папирос. Размазанная тушь берез. Помада яркая осин. Россия. Осень. Блудный сын». «Над державою, пьяно — весело, листья ржавые осень вешала». Ну и так далее.... Для моей души очень важно переживать главные осенние чувства — от грусти через печаль к тоске. Очень поздней осенью страдаю. А потом — бац! — первый снег! Очищение. Рождество, Новый год. Очень люблю! Опять же осенью грибы, рыбалка, ягоды. А арбузы? Я в Киргизии на пять минут с дороги на бахчу отошел и разошелся с пятью годами тюрьмы...
— Осень, арбузы, тюрьма — романтика. Чистый шансон. Говорят, правда, что в нем сейчас застой. Ты согласен?
— Я согласен с афоризмами Горького «Я пришел в этот мир, чтобы не соглашаться» и Оскара Уайльда «Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что не прав». Сдается мне, что у нас всегда и во всем либо застой, либо революция. Это национальный характер — лежать до упора на печи, а потом резко всем бошки поотшибать. Действительно, в «песне со смыслом» много печального: мелкотемье, пошлость... Но тоже самое происходит и в поп-музыке, и в рок-н-ролле. Меньше этого в КСП, но и там хватает. Мало ярких дарований, крупных личностей. Это ведь еще проблема языка, общества. Песня — это показатель духовной жизни страны, нации. Большинству населения поэзия после школы доступна лишь в песенном варианте. Песня же определяет культуру людей от культуры «далековатых». К сожалению, замечание Бертольда Брехта, что «безвкусица масс глубже коренится в действительности, чем вкус интеллектуалов», безусловно, верно! Но разве одна из главных задач искусства не улучшение нравов? Мы же, авторы слов, часто потакаем самым низменным проявлениям массового бессознательного. А тут еще коммерциализация эфира, борьба выпускающих лейблов за долю рынка, за своих авторов и против «чужих»... Тут уже не до качества песен в стране, где все поют про любовь, а рождаемость падает.
— Владимир, кто-то из «Великих» оказал на тебя влияние?
— Из русскоязычных Александр Сергеич (мне его на ночь матушка зачитывала еще в детстве), Некрасов, Маяковский, Цветаева, Ходасевич, Заболоцкий, ну и Бродский Иосиф Александрыч, конечно же. Но в годы ученичества поэтического я писал и под Пастернака, и под Вознесенского. Всех прочел, никто не скрылся.

— А Сергей Есенин?
— Не то слово! Его зелененькая книжечка попалась мне классе в седьмом. Я уже тогда писал стихи, но по наитию. Поэтов избегал читать, полагая, что буду подражать. В общем, по дороге из школы закупал чекушку. Дома листал Есенина, пел его стихи под гитару, прикладываясь к рюману. Тосковал, плакал. И было мне абсолютно понятно, что жизнь кончена. Когда же мама приходила с работы (а она пахала врачом на две ставки, воспитывая меня одна), сынок уже мирно спал, «начитавшись».
— А Высоцкий?
— Владимира Семеныча услышал в пионерлагере у старших пацанов, неподалеку от которых постоянно крутился. Было мне лет двенадцать. Песня, как сейчас помню, «В заповедных и дремучих страшных Муромских лесах...», поразила сразу. Потом, разумеется, позже, прослушал всего. Могучий чел! Но ты знаешь, вот не мой он какой-то.... А вот кого считаю своим учителем железно, так это... Короче, классе в восьмом в походе были. Насадились портвейна изрядно. Самая крутая песня, какую я тогда на гитарке исполнял для девочек, «Ромео и Джульетта» называлась. И подсели к нашему костерку двое ребят, видать студенты — каэспэшники. Вели себя снисходительно, но песенок много пели и хорошо. Наверное, и Окуджаву, и Визбора, и Высоцкого, ну много. По портвейну-то, плохо я соображал, сидел, тупо слушал, и вдруг они как спели какую-то песню, а у меня аж мороз по хребту. Перекомпановало меня всего. «Кто это?» спрашиваю сквозь икоту. «Галич». Была это песня «Диалог с чертом» Александра Аркадьевича Галича. Разбудил он меня, прям как декабристы Герцена. Тогда Галич был под строжайшим запретом, но я где только можно, даже на помойке, помню, нашел бобины старой ленты («тип 2», была такая), по песенке его собирал. И Высоцкий же пел много его песен. В поисках песен Галича я и в КСП попал. Вот перед кем шляпу снял бы в любую погоду! Мой персонаж, близкий по духу. Великий человек. Спасибо ему огромное!
— А кто еще из «поющих» тебе близок?
— Ну, пан Вертыньский, Окуджава. Александр Башлачев — сумасшедший талант. Очень жаль, что ушел рано. А из живых — Макаревич Андрей, Митяев Олег. Дай им Бог здоровья. А еще мне интересны многие песенки Розенбуама, Новикова, Кучина, Трофимова, Бобкова. Впрочем, давать оценку творчеству коллег дело не благодарное. Да, хочу еще напомнить о Леониде Дербеневе! Какие ему песни удались, а? «Есть только миг...» одна чего стоит...
— С кем из шансонного народа общаешься?
— С Катериной Голицыной раньше часто виделись, но теперь она в основном сама сочиняет слова. С Мариной Александровой тусуем. Со Славой Бобковым скорешились на презентации последнего диска Кати, весной. Дал я ему книжечку свою, он перезвонил. Сейчас общаемся со взаимным удовольствием. Даже проект совместный придумали.
— Что за книжечка? Какой проект?
— В 2002 в Объединенном гуманитарном издательстве (ОГИ) вышел тысячный тиражик. Называлось все это «Песенки для взрослых». Сейчас уже по книжным магазинам ее нет. У меня самого один экземпляр остался. Но все тексты можно полистать на сайте www.shilenskiy.ru. А о проекте с Вячеславом пока рано распространяться. Опять же хочу подчеркнуть, я сочиняю песенки во всех стилях. Тема, слова дают ритм, ритм заказывает музыку. У меня есть рок-н-роллы, блюзы, КСП, рэп и даже сам не знаю что. Пожалуй, попсы только нет.
— Ты пишешь песни на заказ?
— Как правило, нет. Правда, две песни специально для Голицыной сочинил. Не удержался. Уж больно Катерина обаятельный и кипучий человек. Но если «Духи с ароматом свободы» была записана сразу, звучала по радио и вошла в альбом, то вторая песенка получилась очень острая, скандальная, совсем не политкорректная. Называется она «Вот так!». Там есть строки «Он пока сидит на рынке, продает гнилой товар, но однажды по старинке закричит «аллах акбар». Только выйдешь ты из дома, как ударит пулемет! Понимаешь, по-любому, сын за Родину умрет!». Эту песенку я отдал Кате за месяц до «Норд-Оста», но пока она так и не решилась ее исполнить.
— А почему ты сам ее не споешь?
-А потому что она написана от лица женщины, матери. А еще так вышло, что я отписал Кате эту песенку аж на двадцать пять лет со всеми правами! И если б только ее одну! «Мадам Виолетта», «Ягода морошка», «Русская рулетка» тоже не записаны до сих пор. Жаль — ни себе, ни людям.

— Давай вернемся к твоим путешествиям-приключениям. А именно к Алтаю. Как тебе жилось на чужбине?
— Ну какая же это чужбина? Это наша Родина. Не знаю, как там с этим теперь, а тогда с мая по октябрь можно было вписаться в череду сезонных шабашек. Сначала сбор папоротника по имени Орляк. Для японских товарищей. Пара недель в тайге, в палатке — двести «ре» на карман (это когда в стране в среднем в месяц зарабатывалось 120), и в Барнаул. Гостиница «Сибирь», коньяк, противоположный пол. Через неделю опять в тайгу, на заготовку коры горной ивы (талина по-местному; для дубления кожи, говорят, используют). Балаганчик бревенчатый. Рядом речушки с вермишельку бегут по имени Тулой и Эдырбыс. Засыпаешь с поднятыми руками, потому как от махания топором лесорубным шибко болят, если не поднимать. Заготовка дубкорья называется. В августе под Бийском облепиху дербанишь шмыгалкой (это из «проловки» такой прибор пинцетовидный, чтобы руки все не исколоть окончательно). Бараки, нары в три яруса, антисанитария, народ со всей страны. Поучительно. А без облепиховых денег на орех не забросишься. А вот сбор кедрового ореха это, доложу я тебе, ни с чем не сравнимая штука! В середине сентября заехал в таежную избушечку и до снега. Кра-со-та! Настоящая мужская шабашка. Орешничать просто так не воткнуться. Это уж я был допущен, когда с народом местным в Артыбаше сошелся. Еще знаки зодиака гипсовые лил да туристам на турбазе «Золотое озеро» продавал. Назывался бизнес «Национальный алтайский сувенир» — рубль штука. Корень золотой на гольцах драл для туристов же («Радиола розовая» по многим показателям сильнее Жень-шеня). Там же на турбазе познакомился со своею будущей, а теперь уже давно бывшей, женой. Хариуса полавливал, на мишку петлю ставил, в реки падал.... Как потом в стихе писал «Ковал коня, дрова колол. Дрова сгорели, пал тот мерин. А потому, гори глагол, а в остальном свой пыл умерим». А тем временем жизнь в стране менялась. То сухой закон. То слухи дошли, что можно кооперативы открывать какие-то. А потом друг московский письмо написал, дескать, хорош таежничать, мы уже компьютеры продаем, по первому «жигулю» купили. А тут подался я на гольцы за корнем, и опять внутренний Голос, мол, все ты понял, давай возвращайся и делай, что тебе положено...
— То есть, внутренний голос тебя вернул?
— Выходит, что так. Ну, думаю, вниз надо, да в первопрестольную собираться, и как туманище лег — руку вытянешь, а пальцев не видать. Три дня по гольцам пластался, спуститься в долину Чулышмана не мог. На секунду солнце выглянуло, ну и успел сориентироваться. Во как! Вернулся я из странствий (мама считала, что с заработков) — ровно одна копейка у меня в кармане жила. Устроился дворником в Замоскворечье, ну и начал со стихов на песенки переходить. Был 91-й год.
— Поведай еще какую-нибудь душещипательную историю из жизни бесшабашного шабашника.
— На Телецком озере это было (кто не знает — жемчужина Алтая). Длиной оно около 80 км, а в самом широком месте пяти не будет. Узкое, глубокое, холодное. Обрывистые живописнейшие берега. Водопады. Похоже оно с высоты полета птичьего помета на бумеранг. Углом таким расположено. С юга в него впадают Чулышман с Башкаусом, а на западе выпадает Бия. В том месте, где озеро как бы переламывается, на северном берегу его — заповедник, аж до самой Хакасии, а на южном, где залив Ыдып, километрах в пятнадцати от берега, за Сокорок-келем (Слепым озером, кто не знает), избушка маленькая в распадке притаилась. Глухомань. В избушке — я. Уже месяц как по тайге гуляю, шишку заготавливаю. Конец октября. Снег лег. Красотища неимоверная. За избушкой лежат штук десять кедрин толстенных. Одна к одной. Видать, когда зимовье рубили, то ли перестарались, то ли передумали. Повалить-то повалили, подготовили, верхушки суковатые поотпиливали-пообрубали, а не пригодилось. Ну и на последнем, на крайнем стволе свил я себе местечко отхожее. Утро. Солнышко. Тайга заснеженая, прям — невеста. Тишина такая, что слышно, как душа поет. Угнездился я на кедриночке заветной, папироску «Любительскую» запалил, медитирую... И вдруг — движение какое-то взгляд мой от бесконечности отвлекло. А это — о, чудо! — соболь бежит по дальнему от меня стволу поваленному. Я его первый заметил, а тут и он меня почуял. Замер напротив, на лапки свои пушистые привстал столбиком, повернулся, да как глянет мне прямо в глаза. И будто толкнул меня легонько взгляд его, полный лукавого любопытства, а, может, и укоризны. И понял я, в то же мгновенье понял, что равновесие — вещь изменчивая, и что медленно, но неуклонно кренить меня назад стало, в сторону для меня не лучшую. А мне и вперед уже нельзя — опоры нет, под ногами ледок, от предыдущих посещений. Схватиться не за что. И не могу я вот так на глазах соболя неэстетично растянуться-раскорячиться, бревнище оседлать. А за спиной — мои же останки утилизированные, да заботливыми сучкорубами наваленные друг на друга верхушечки кедровые. Все сукастые, ощетинились копьями. Не дай бог напороться смаху... Смотрим мы с соболем друг на друга, как загипнотизированные. Он стоит, а я сижу и падаю. Длилось все это, разумеется, доли секунды. И инстинктивно принимаю я гордое и ловкое решение — мощно, что есть силы отталкиваюсь от бревна и на глазах у опешившего соболя совершаю высокоамплитудный кульбит-пируэт-сальто назад, перелетаю через смертельный частокол сучьев и грациозно приземляюсь в снег на четыре кости! Чуть-чуть только ляжкой зацепился. Выглядываю — никого. Вот такая история про соболя-шатуна. Интересно, что соболь про встречу нашу подумал. Наверное, дружкам своим, соболихе, да деткам рассказал, как мужика шуганул. А ты говоришь песенки...
— Да, история не для слабонервных. Кстати, почему именно «песенки»?
— Мне кажется, что «песня», звучит как-то пафосно... Ну и потом, если все пишут песни, то пусть я — песенки.
— А стихи?
— Стало мне понятно, что стихи — это для узкого круга. Интернет-поэзия, малотиражные сборники... Книги-то народ совсем перестал читать. А с помощью песенок можно достучаться до широкой аудитории. Пришло время аудиовизуального ряда. Да и песенки мне писать интереснее стало, органичней.
— Насколько комфортно ты ощущаешь себя в этом жанре? Успех не за горами?
— Ощущаю себя очень одиноко. Знаю, что к своим сорока пяти годам, уже придумал сколько-то песенок, которые меня переживут и долгое время будут еще актуальны. Хотелось бы спеть их, конечно. В будущее смотрю с нескрываемым пессимизмом. Думаю, все будет либо очень хорошо, либо очень плохо. Я человек крайностей. Но будущее люблю больше, чем прошлое, потому что будущее все-таки зависит от тебя. А с прошлым все наоборот — ты от него зависишь.
— Что ты любишь и чего не любишь?
— Люблю песенки придумывать, а не люблю хамства и просить. Но песенки появляются все реже, хамство становится все больней, а просить приходиться все чаще.
— Пожелай себе чего-нибудь.
— Не утратить жажды жизни.
— Ну и напоследок расскажи какую-нибудь историю, связанную с написанием песенки. Есть такая?
— Как не быть... Это самый редкий случай, когда ты вдруг сразу что-то видишь и понимаешь, что это уже песенка, образ готовый, надо только расшифровать увиденное. Зима 96-го. Спускаюсь в метро на Соколе. Стоит пожилая женщина. На груди — картонка «слепая». Очки толстенные. Продает игрушки е-е (шарики на резинке). Я мимо пробежал, а уже на эскалаторе слова пришли. Пока добрался до дома, нагромоздил несколько четверостиший. В Лефортово я тогда квартирку снимал. Купил вина рейнского бутылочку, а сам весь аж дрожу, так тема зацепила. Неделю где-то я с текстом этим бился, а когда закончил «Шарик на резинке», перечитал, случился со мной катарсис, как это Аристотель назвал. Очищение слезами, приход, расширение сознания, эстетический шок. Комната перевернулась, и я побежал по потолку! Натурально.
— И долго ты бежал?
— Секунд, наверное, несколько. Но больше со мной такого не случалось... Хотя, может быть, с той поры я и не слезаю с потолка.