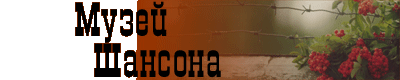В зеркале творчества
У Лиона Фейхтвангера есть такие слова о Бертольте Брехте: «Нетерпеливый драматург Берт Брехт написал первые пьесы третьего тысячелетия. Ему повезло: время уже при его жизни приблизилось к нему, поняв и оценив то, что он сделал».
В фойе театра, где работал Владимир Высоцкий, рядом с портретами Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда — портрет сурового, ироничного, одновременно и отчаянно, скальпельно резкого и безжалостно уязвимого и ранимого в своей доброте и вере в человека мудрого чудака Брехта.
Опережал ли в чем-то Владимир Высоцкий свое время или с несуетной и горькой истовостью высокого ума и таланта жил в нем? Вопрос беспредметен: правда, видимо, и в том, и в том. Правде вообще суждено быть диалектичной, о чем мы, увы, не всегда помним...
Когда «Смена» вновь и вновь возвращалась к творчеству Высоцкого (напомним наши публикации в № 18 за 1985 год и в № 11 за 1986 год), то мы не стремились опровергнуть несправедливость умолчания о нем — она была опровергнута самой жизнью, не стремились и к тому, чтобы, как это ни цинично звучит, «погреть руки» на всенародной популярности, которая пришла к нему при жизни и была канонизирована после его смерти.
Мы пытались разобраться, рассуждая вслух, чем же стал для нас Владимир Высоцкий и почему.
Сегодня мы предлагаем вам, с нашей точки зрения, интереснейший эксперимент анализа личности и творчества Высоцкого, предпринятый доктором философских наук Валентином Толстых.
Мы благодарим автора и журнал «Вопросы философии», где были напечатаны размышления В. Толстых, за разрешение опубликовать их в «Смене». Благодарим от имени множества наших читателей, которые столь часто обращаются с просьбой помочь им разобраться в феномене Владимира Высоцкого.
Всеобщность, общественная значимость явлений художественной культуры имеют свою специфику. Нередко это — единичное, некое «исключение из правила», выражающее, однако, какую-то важную тенденцию развития литературы и искусства. Так случилось, в частности, с творчеством Вл. Высоцкого, еще вчера казавшимся кому-то (многим и сегодня) чуть ли не периферийным ответвлением реального художественного процесса, своего рода «нонсенсом», не имеющим прямого отношения к волнующим нас общественным проблемам и вопросам. В свете уроков правды, осмысляемых и переживаемых общественностью под воздействием прошедшего недавно партийного съезда, ситуация изменяется буквально на глазах.
Ныне нет недостатка в смелых, безбоязненных характеристиках и оценках противоречий и недостатков в народном хозяйстве, нравственных вывихов и упущений, проявлений несознательности, бездуховности, бескультурья. Но эта смелость, так сказать, «с разрешения», пусть искренняя и исполненная гражданского пафоса (потому что немало критики и в духе социальной демагогии, мастеров каковой у нас развелось предостаточно), все-таки вызывает и чувство досады. Имеются в виду деятели культуры, возмущенные существованием и распространением у нас целых «кланов» от искусства — поставщиков отечественной псевдокультуры, низкопробной «духовной» продукции или ратующие за «правду-матушку» в искусстве и полагающие, видимо, что художественная правда, как и научная истина, входит в жизнь обязательно под аплодисменты и получает сразу всеобщее одобрение. Удержимся от сакраментального бестактного вопроса: «Где вы были раньше, отчего молчали вчера?» А просто вспомним, а кому-то напомним, что были и те, кто не молчал, не дожидался лучших времен и «разрешения» сказать то, о чем художник не вправе умалчивать ни при каких обстоятельствах. Ведь были и Валентин Овечкин, и Александр Твардовский, и Василий Шукшин, и Юрий Трифонов, есть Василь Быков и немало других живущих художников, которые вовсе и не «борются» за правду, а ею жили и живут. Среди них и В. Высоцкий, без высокопарных деклараций и обещаний реализовавший на деле, в самом творчестве первейшую потребность настоящего художника-гражданина — сказать правду о времени и о себе.
Вряд ли кто будет настаивать на том, что стихи Высоцкого «гениальны», музыка его песен свидетельствует о выдающемся композиторском даре, а исполнение их самим поэтом совершенно с вокальной точки зрения. Но все вместе взятое образует некий сплав — уникальный, индивидуально-невоспроизводимый, оказывающий на слушателей сильнейшее воздействие. Его творчество неразложимо, целостно в самой основе, существе своем, требуя от того, кто берется о нем судить, такого же целостного подхода и оценки. При этом надо по возможности полнее учесть то обстоятельство, что Высоцкий появился не «вдруг» и не сам по себе, а в составе некой особой ветви литературы и искусства 60 — 70-х годов, представленной именами Б. Окуджавы, Н. Матвеевой и других наших поэтов-бардов. (Не знаю, как они сами относятся к тому, что их называют так, но они именно барды, т.е. поэты-певцы и декламаторы, если исходить из социальной функции и жанровой характеристики их творчества.) И, стало быть, творчество Высоцкого нельзя понять вне общего контекста развития нашей художественной культуры последних десятилетий.
О Высоцком написано и сказано уже немало'. Вопрос в том, насколько наши попытки объяснить этот феномен основательны и результативны, т.е. раскрывают истоки, закономерность возникновения, художественную и общественную ценность его творчества. Понятно стремление найти и обозначить его место в искусстве, среди поэтов «хороших и разных». Без таланта, конечно, нельзя, просто ничего не получится. Но для того, чтобы талант проявился, надо, чтобы он понадобился, отвечая своим появлением каким-то потребностям общества и времени. Подход к оценке смысла поэзии для нас вполне естественный, можно сказать, традиционный. В соответствии с точным наблюдением: «Поэт в России больше, чем поэт!»
Настоящая статья представляет собой попытку социально-философской характеристики творчества Вл. Высоцкого, рассмотренного в основном в культурологическом аспекте.
* * *
Начать надо с того, что явление это — Владимир Высоцкий — сложное, весьма противоречивое, озадачивающее многих и многим. Попробуйте, скажем, объяснить неубывающую популярность его как барда, поэта-песенника, и вы столкнетесь с самыми полярными ощущениями и оценками, которые придется принять во внимание. Это если считаться с тем, что люди по-разному воспринимают одно и то же явление, и не считать пределом формулу «о вкусах не спорят». Спорят — еще как! Ведь для одних (очень многих!) это почти кумир, откровение, «охрипшая совесть» целого поколения, принимаемый почти безоговорочно во всем, что им сочинено и напето. А для других (их тоже предостаточно!) он не более чем модное явление, «хрипун», сочиняющий «на потребу» сомнительного свойства песенки и подыгрывающий невзыскательному вкусу. Одни буквально упиваются его песнями и балладами, не замечая многочисленных отступлений от правил классического стихосложения, «торчащих» рифм, сбоев ритма и пр. Другим все эти отклонения и нарушения корежат слух настолько, что они ничего другого-(разве еще и голосового надрыва) не слышат, не замечают. Есть люди, предпочитающие Высоцкого читать, а не слушать, которым его собственное исполнение мешает понять то, что он хочет сказать. И, напротив, подавляющее большинство с трудом воспринимает его стихи без музыкального, обязательно его собственного сопровождения.
Меня поразило единодушие, с каким очень разные люди, не сговариваясь, почти в унисон говорят о человеческом и гражданском смысле творчества Высоцкого...
«Вы посмотрите, как все просто и ясно у него в песнях и стихах. Но ведь до него никто этого и об этом так не сказал. Он находит слова не только доступные, доходчивые, но близкие всем своей болью, состраданием, пониманием других. Сейчас стало трудно расшевелить, взволновать, тем более потрясти. Мы живем как-то «официально», «театрально», что ли, как бы играя роли — производственные, служебные, семейные, дружеские и т. п. И надо, чтобы кто-то вроде Высоцкого заговорил с тобой обыкновенным, таким живым и сочным русским языком о вещах для тебя важных, вызвал в душе тепло, поселил какую-то радость...»
«...Понимаете, никакого заигрывания со своим талантом. Высоцкий никак и ничем себя не выделяет, не отделяет от других. Не на словах — на деле, в самом общении с миром. Он понимает, что, как бы люди ни были поглощены суетой, они горят желанием узнать правду, пробиться к истине».
«Высоцкий не из тех, кто делает что-либо только потому, что это «надо». Он всегда говорит и поет о том, что лично его волнует, что родилось внутри него самого. Таким, как он, можно довериться, верить. Он не будет заигрывать с высокими понятиями и словами. Патриотичный человек, но словами «Родина» или «Россия» не разбрасывается...»
«Как когда-то Маяковский, он начал говорить языком «улицы», не чураясь просторечия, без которого литературный язык задыхается, немеет от собственной чопорности. Ни одного модного словечка... И еще — лад, мелодика его песен чисто русская, без интонационных «примесей», вроде явно заемного подвывания и завывания, чем грешат сейчас много на эстраде». — И т.д.
Это говорят те, кто Высоцкого признает, любит. Но надо бы прислушаться и к тем, кто его не признает, не любит. Иные отказывают ему даже в праве называться поэтом. Многим не нравятся его «алкогольные», «блатные» (и «полублатные») песни, некоторые «чрезмерно вульгарные тексты» и персонажи, в них воспетые, — полуспившийся Ваня, приблатненный Сережа, дефективная Нинка и т.д. А особенно то обстоятельство, что подобные песни пришлись по душе разного рода торгашам-«шашлычникам».
И возникает вопрос: а может быть, есть еще и другой, второй Высоцкий — тот, что пришелся по душе мещанам, всякого рода умственным и нравственным недорослям? Нет, Высоцкий один и един в своем творчестве, но надо по возможности объективнее, историчнее подойти к восприятию и оценке его творческого пути, который не был таким гладким, проторенным, как кому-то хотелось бы это представить, где, безусловно, были и свои сложности, и срывы, и «сдача позиций», позволяющие посчитать его «своим» тем, кого он вряд ли сам назвал бы своими единомышленниками. Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что между Высоцким, начинавшим пробу пера и струн с полублатных песен, ёрнических поделок и шутливых зарисовок, и тем, кто написал баллады «На братских могилах», «О борьбе», «О времени», разница большая и принципиальная. * Общий контекст творчества поэта не надо терять при анализе даже самых ранних его песен.
Итак, налицо весьма серьезное разночтение в трактовке одного и того же явления. Но удивительно не самое это разновкусие и разнопонимание, привычное в мире искусства. Удивительно то, что пройти мимо Высоцкого, оказаться им не задетым мало кому удалось. Тут есть какой-то секрет, какая-то загадка, которую надо разгадать.
Попробуем разобраться. Займемся вопросом скорее философским, чем филологическим, — с чего начинается поэт и кого можно таковым назвать. Видимо, все согласятся, что разгадка такого явления, как Высоцкий, начинается все-таки не с рифм и не с мелодики его песен-стихов, а с обозначения духовной природы и социально-культурной значимости его уникального дара и творчества. Или иначе с выявления той потребности, нравственной и эстетической, которую он, так сказать, явочным порядком реализовал, выполнил в составе живой, развивающейся художественной культуры наших дней. Почему, собственно, именно Высоцкий оказал и продолжает оказывать такое сильное духовное воздействие на столь огромное число столь разных людей (разных по образованию, привычкам, склонностям, вкусам, пристрастиям)? На чем держится общественный интерес к поэту?
Как ни покажется странным такое утверждение, дело здесь не в таланте и его своеобразии, а в богатстве и социальной значимости связей творца искусства с окружающим миром. В самом деле, почему-то художников, достойных общественного внимания, много меньше, чем людей, обладающих даром образного, художественного мышления и владеющих соответствующими навыками и приемами. Секрет всего значительного, созданного искусством и литературой, кроется, видимо, не только и не столько в самовыражении, а в том, обладает ли претендент а художники общественно значимым предметом для своей потребности в самовыражении. Ведь эстетический вопрос «с чего начинается художник?» изначально связан с другим, более общим вопросом — «с чего начинается личность?».
Безусловно, поэты чувствуют, мыслят и говорят стихами. Но поэт не тот, кто умеет писать стихи, и стихотворство еще не поэзия, если оно лишено духовного содержания. Поэт — это состояние души, это особое мироощущение, способность сердцем ощутить «трещину мира», как хорошо сказал Гейне2. Поэзия начинается с чувствующей и размышляющей души, способной все характерное и индивидуальное в окружающем мире и в нас самих сделать общеинтересным, пропустив через очищающую стихию «обманчивого сходства с действительностью» (Гегель).
Вот такой душой, восприимчивой и мыслящей, а также удивительным умением воздействовать на «душу живую» обладал Владимир Высоцкий. И начинаешь понимать, что, как ни велика, ни заразительна сила страсти его надрывающегося голоса, не она трогает сердце, волнует душу. Что дело и не в манере исполнения — у Высоцкого внешне строгой и скромной. И даже не в темпераменте, поистине вулканическом, редкостном по своей активности, напору и жизнелюбию. Есть качества личности, которые невозможно не только повторить, но даже спародировать или сымитировать более или менее убедительно. Так что вряд ли кому-либо и когда-либо удастся, скажем, спеть «под Высоцкого». Настолько он выразителен. Здесь уникальна и потому недоступна и форма, и мера самовыражения индивидуальности поэта. Дело опять-таки не в психологических особенностях таланта, а в его особой общественной «закваске», заряженности и направленности. Ведь сколько ни копайся во внутреннем мире художника, никак не поймешь, откуда что у него берется. Природа, своеобразие той или иной индивидуальности лежат в сложном взаимодействии общественного и личного. Так и в данном случае.
При внимательном взгляде и обдумывании начинаешь понимать, что секрет удивительно мощного духовного воздействия Высоцкого на своих слушателей заключен прежде всего в объективном пафосе и содержании его стихов-песен (если под сознанием понимать «осознанное бытие», а высшее достоинство чувства и мысли видеть в их истинности, соответствии объективному содержанию жизни). Ему удалось добиться, пожалуй, самого редкого и завидного для художника результата — стать человеком близким, своим для очень многих людей, войти не только в дом, квартиру, но и в душу каждого, кого он задел своим творчеством. Впечатление от его многочисленных песен такое, что он попытался объять необъятное, что ему до всего и до всех есть дело. Я понимаю, что это всего лишь впечатление, что объять необъятное немыслимо. Но как отвязаться от самого этого впечатления? Это можно объяснить развитым чувством причастности поэта — причастности не по обязанности, а по строю души, по велению совести, т.е. отличающим Владимира Высоцкого пронзительно личным восприятием дел, забот и раздумий своих сограждан, нас с вами, дорогой читатель. Но ведь многим, и не только художникам, свойственно это чувство: никому еще не удавалось создать, сотворить что-либо путное, стоящее, достойное внимания людей без той нити, которая тебя с ними соединяет, роднит.
Сотни песен, баллад и стихов Высоцкого — это целая вселенная явлений, сюжетов и героев, им подсмотренных и выхваченных из потока жизни, запечатленных в образах и картинах, которые ни с какими другими не спутаешь. При этом подлинность сочинительского дара его такова, что у многих появляется убеждение, что это все он сам прожил и пережил: что он и воевал, и был шофером, и матросом, и золотоискателем, и, простите, малость «посидел» когда-то. Согласитесь, этого одним лишь «умением» писать стихи не объяснишь. Тут нужен талант особого рода, редкого человеческого качества — способность слиться с предметом своего внимания, почувствовать его изнутри.
Оригинальность Высоцкого не в умении создать нечто причудливое, хотя он и был мастером сочинять необычное, удивлять и даже ошарашивать. Она имеет вполне земные корни и вытекает из самой жизненной установки поэта-певца — быть с людьми вместе, т.е. не около и не рядом, и смотреть на них не со стороны, не свысока и не снизу. Природа «личной причастности» Высоцкого такова, что и его создания, и личность самого поэта обретают характер какой-то неподдельности, непосредственной демократичности и человечности. При этом никакого амикошонства, стремления выдать себя за своего, прослыть «своим в доску». Будучи актером по нутру своему, он избегает актерства в поведении и общении, не выпячивая никаким внешним приемом или средством собственную персону. И это не игра, не маска скромности или деликатности, а выражение его, Высоцкого, принципа взаимоотношений с людьми. Отсюда и неэстрадная в привычном смысле слова манера общения с аудиторией. Понятно, почему многим поклонникам его творчества он нравится больше с гитарой, а не с оркестром. Оркестровые переложения его песен в большинстве своем удачны, сделаны со вкусом, но в них улетучивается, исчезает нечто такое, что можно назвать эфиром его творчества, что подчеркивает и передает особый эффект его публичности, общительности. С оркестром он, что ни говорите, все-таки выступает, исполняет, а с гитарой — беседует, разговаривает. Манера общения Высоцкого — исповедальная. И потому в том, что он рассказывает, поверяет тебе, нельзя ничего изменить, «поправить», как нельзя улучшить, сделать другой исповедь. Тут ничего не поделаешь — ее можно принять или не принять...
Прокладывая путь новой форме общения с аудиторией, Высоцкий предлагает свой вариант реализации общественной функции искусства. Пример показательный и неожиданный во многих отношениях, и в первую очередь в том, что касается поиска реальных путей и способов формирования сознания в социалистическом обществе. В современном обществе, как давно замечено, многое диктуется модой, навязывается рекламой, а иногда просто доступностью. Популярное такого рода нередко отождествляется с истинным («настоящим», «подлинным») искусством. И хотя во многих случаях это далеко не так, с массовостью признания того или иного явления в сфере культуры, искусства вообще считаться надо, стараясь отыскать истоки и причины популярности каждого феномена. Увы, хорошо знакома популярность, что сродни бездумному ажиотажу вокруг модной персоны или баловня судьбы, добившегося массового признания какой-то способностью — петь, хорошо двигаться или острить, чаще всего рекламируя праздную повседневность. Мы так боимся добраться до истоков этого сорта популярности, что предпочитаем не касаться потребности, ее вызывающей и воспроизводящей.
Широкая и устойчивая популярность Высоцкого совершенно необычного свойства, мало с чем сравнимая. Это популярность, как издавна ее именуют, «народного любимца». Она заставляет всерьез задуматься над тем, какую миссию выполняет (должна выполнять!) поэзия в наши дни и что значит быть художником, нужным людям. И почему поэзия такого рода — «низкая», «ироничная», «хлесткая», «грубо мужская» и в то же время очень «тонкая», «хрупкая», «ранимая» — нашла столь широкий отклик. Каким качеством, социальным и эстетическим свойством своим связала она прочной духовной общностью множество различных людей, для которых Высоцкий в определенном смысле стал неким паролем? В чем тут дело?
Живая практика духовного творчества гораздо богаче и неожиданнее в своих проявлениях, чем принято думать. Иногда она порождает явления культуры, непривычные с точки зрения устоявшихся представлений и вкусов, которые, однако, восполняют и дополняют то, что воспроизводится культурой «классического» типа, отвечая на запросы и ожидания целых слоев читателей, слушателей. Так когда-то появились песни-стихи «под гитару» Булата Окуджавы, восторженно принятые молодой интеллигенцией, а затем и Владимира Высоцкого, популярность которого росла и с годами приобрела непредсказуемые размеры и формы. Не секрет, часто к стихам и песням, заполняющим нашу эстраду, у слушателей и зрителей не возникает никакого отношения либо отношение сугубо стороннее. Напротив, чувство правды, истинности переживаний, страстное желание повлиять на жизнь, что-то в ней изменить, улучшить, исправить, столь недвусмысленно и ярко выраженное в песнях В. Высоцкого, как правило, поражают воображение слушателей, заражают своей активностью.
Да, кому-то мир песен Высоцкого может показаться недостаточно возвышенным, даже примитивным, а стихи и мелодии — не отвечающими самым высоким требованиям. Но ведь никто из серьезных почитателей таланта покойного поэта не считает, что его творчество свободно от недостатков, неподвластно критике, требовательной проверке «суждением вкуса». В свою очередь, и высокая культура должна признать, что, отгораживаясь от того, что она считает «примитивным», с помощью эзотерического языка, она поступает так часто не по причине присущей ей «утонченности» мышления и вкуса, а из страха перед действительностью или в стремлении к покою. Ведь с тем, что преподносит ежедневно жизнь живая, с тем, что можно встретить в «гуще жизни», хлопот не оберешься. Так что часто обсуждаемая проблема доступного искусства вовсе не сводится, как иногда полагают, к проблеме сложности языка, используемых средств. Высоцкий своим творчеством проявил наиболее существенную сторону данной проблемы. Какую же?
Имеется немало интеллигентных людей, отнюдь не отсталых в своих вкусах, но не принимающих Высоцкого, как они думают, именно по вкусовым соображениям. При более внимательном рассмотрении, однако, выясняется, что мешают им принять его все-таки не «полублатные» интонации, жаргонные словечки и шокирующие ухо бытовые подробности в его песнях-зарисовках, где низкое и высокое порой соседствуют, живут, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Не нравится, отталкивает сама степень близости поэта к реальности, раздражает простодушие откровенности, с какой Высоцкий обнажает так называемую прозу жизни, не всегда считаясь с правилами хорошего тона. Подобное отношение как раз характерно для многих людей, профессионально занятых в сфере духовного производства. Это и есть подход тех, которым все заранее известно и ясно, и потому они изначально свысока смотрят на все новое, необычное и еще не устоявшееся как на плохое или по крайней мере отклонение от нормы, что требует, по их мнению, принятия решительных мер. Они-то и являются наиболее радикальными противниками такого нового, независимо от его разумности, и очень быстро остывают в гневе, когда это новое оказывается устойчивее, упрямее их неприятия. Нередко такая установка воплощается у тех, кто ею руководствуется, в позицию пассивной конформности по отношению к социальной действительности, побуждая ее представителей делать вид, что служат они делу прогресса и культуре «вообще». Предупреждая насчет «страшнейшей из амортизации — амортизации тела и души», Вл. Маяковский имел в виду бытие личности, лишенное конкретного исторического и социального смысла.
«Ничто человеческое не чуждо» — эта формула-девиз для Высоцкого есть норма художественного воспроизведения жизни. Он знает, что настоящее искусство «не брезгливо» (А. И. Герцен), что ему все доступно и до всего есть дело. Его творчество — непрерывный диалог с обыденным сознанием, которое он сделал поэтической реальностью, своей художественной материей. Смело погружаясь в обыденный язык, в повседневные ситуации, оказываясь как бы внутри их, Высоцкий не только говорит о вещах, близких и понятных всем, но и говорит на языке, близком и понятном широким слоям. Песни его — это рационально (художественно) обработанные, отлитые в выразительную, часто в афористичную, почти фольклорную форму представления, настроения, чувства и мысли людей, которых именуют обыкновенными, простыми. И надо признать, сделано, сработано это мастерски, почти без отступлений от требований высокого вкуса и искусства. Анализ работы Высоцкого с материалом обыденного сознания ждет своих исследователей, но уже сейчас можно отметить его поразительную способность придать емкую, впечатляющую форму аморфным представлениям и восприятиям. Зачастую таким, которые даже их носителям кажутся незначимыми, не стоящими фиксации, банальными. Кажется, работа проще простого — подслушал, подсмотрел, записал и возвратил тем, кто был предметом его внимания и наблюдения. Но за всем этим — большой, изобретательный труд талантливого художника, фильтрующего и кристаллизующего разного рода самоочевидности эмпирического, бытового и небытового ради извлечения некоего человеческого, общественно значимого смысла.
Удивительно, но это так: в изображении и подаче Высоцкого почти любое жизненное явление перестает быть заурядным, ординарным, незначительным и обретает статус личностного, общеинтересного, всеобщего. Для него нет мелочей (пресловутого мелкотемья) там, где речь заходит о жизни и счастье людей. Но чего бы Высоцкий ни касался в своих стихах и песнях, он неизменно обращается к нашим душам, о «спасении» которых поет в одной из лучших своих песен. Занятие искусством, как, может быть, никакое другое, требует четкой позиции, гражданской и просто человеческой, т. е. ради чего все это говорится, пишется, поется. В творчестве Высоцкого такая позиция есть, и она хорошо чувствуется, просматривается (если, конечно, не заблуждаться насчет «простоты» его созданий). Ведь он всерьез, на самом деле озабочен желанием сдвинуть с мертвой точки человека, погруженного в стихию обыденного сознания, не привыкшего к саморефлексии, не обладающего этой способностью изначально.
Кажется, нет ничего важнее для Высоцкого, как передать непосредственную жизненность факта, события, явления с их неприукрашенной грубоватостью, силой и человеческими слабостями. Но так только кажется. Плотность, густота, полнокровие, всамделишность жизненного материала в песнях Высоцкого, безусловно, впечатляют, но неверно было бы воспринять это как апологию, вознесение обыденности. Еще больше его интересовал общезначимый смысл непосредственной жизни. Того, кто на школьный манер путает идею и тенденцию в искусстве с дидактикой, изображение без «морального хвостика» (Н. А. Добролюбов) в некоторых песнях Высоцкого может насторожить. Но схвачен образ, тип, характеры — и это уже обобщение, как правило, свежее, нынешнее, самое что ни на есть последнее. Не философствуя и не морализуя, Высоцкий философичен в понятном всем общечеловеческом значении, в каком каждый из нас рано или поздно становится философом. Т. е. начинает всерьез размышлять над тем, как мы живем и почему живем так, а не иначе. (Как никогда раньше, человечество нуждается сегодня, по остроумной формуле А. Эйнштейна, «в скамеечке, чтобы сесть и подумать».) И потому певец отмежевывается от словесной и музыкальной макулатуры, что в последнее время так привольно зажила на нашей эстраде. Желание во что бы то ни стало (и любой ценой) развлечь породило эстраду духовной пустоты, чисто соматического воздействия, с расчетом на «три прихлопа, два притопа». У Высоцкого вы не найдете ни одной пустой песни, бессмысленного куплета. Он даже о физзарядке написал так, что песня скорее о душе, чем о теле.
Стихи, песня должны войти не в уши, а в душу, считает Высоцкий. Для этого нужно говорить о том, что людей действительно волнует, и говорить так, чтобы они восприняли твои слова и мысли, как свои собственные. Высоцкий говорит о любви и ненависти, о времени и борьбе, о рождении и смерти, поднимаясь в своих лирических излияниях до философского осмысления житейски близких, узнаваемых тем и проблем. Мужественно и нежно пишет он о «великой стране любви», лишающей покоя, отдыха и сна, но дающей человеку то, без чего жизнь не жизнь. «Потому что, если не любил, значит — и не жил, и не дышал» («Баллада о любви»). В удивительной по проникновению в психологию предвоенного поколения «Балладе о борьбе» «книжные дети, не знавшие битв», хотели в детских играх понять «тайну слова «приказ», назначенье границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц». И попробовав вскоре на вкус настоящую жизнь и борьбу, станут поколением победителей в жесточайшей битве века. В таких случаях поэт не боится упрека в дидактике и смело ставит точки над «I»: «Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал что почем, — значит, нужные книжки ты в детстве читал». Жизнь — это нескончаемая борьба добра и зла, совсем не абстрактных, а вполне конкретных. Обращаясь к современникам, поэт размышляет, спрашивает, утверждает:
«Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом.
Ведьмы вас не пугают шабашем?
Но не правда ли, зло называется злом
Даже там, в светлом будущем вашем?
И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель всегда презираем,
Враг есть враг, и война все равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна,
И всегда на нее уповаем.
Время эти понятья не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт, —
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас...»
(«Баллада о времени»)
Есть у Высоцкого стихи и песни иного склада, «замеса»: очень разные и в чем-то сходные, они порождены особым типом художественного обобщения, взаимодействия объективности и субъективности. На первый план в них выходит непосредственно чувство, настроение, духовное состояние, остро переживаемые человеком и не всегда ему самому понятные. Это образные зарисовки — всплески эмоций («Москва — Одесса», «Лечь бы на дно...» и др.), а то и целая картина-стенограмма чувствований, как, например, в «Баньке по-белому», где проверку на прочность проходит духовная сила человека, «жизнь самой жизни» (Гете). Здесь, в сфере духа, мимолетности и случайности теряют свой частный характер, ставя человека перед серьезным испытанием, которое выдержать, пройти совсем нелегко. Лирический герой Высоцкого не впадает в пессимизм, хотя порой человеку кажется, что «осталось одно — просто лечь и помереть» или «лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не смогли запеленговать». Оптимизм — не в бездумном бодрячестве, а способности, когда надо, выстоять, сделать выбор, занять позицию, не сдаться на милость обстоятельств, пусть они и сильнее тебя. А иногда Высоцкому достаточно лишь предупредить нас об опасности, остановить свершение поступка, о котором завтра мы сами будем жалеть. Объем духовной работы, проведенной поэтом в своем разнообразнейшем творчестве, поистине непередаваемо огромен.
Выходит, Высоцкий гораздо больше чем «певец проходных дворов», как его кто-то назвал, по сути, поставив под сомнение самостоятельность как художника-гражданина. Видимо, вернее будет назвать его художником наших нравов, нравственности практической (фактической), в анализе которой искусству нет равных. И надо признать, что информативно его песни богаче, более ценны, чем многие социологические (этические) сочинения. Нравы — взаимоотношения людей, ставшие массовой привычкой, манерами жизни и склонностями, свойственными тому или иному слою людей, обществу в целом. Это мораль на ее обыденном, житейском уровне, в обиходном проявлении. Она включает в себя и то, что не совпадает, расходится с нравственным идеалом. Для того чтобы воздействовать на людей, искусство должно, по Ф. Энгельсу, «отражать и предрассудки масс» данного общества и времени3. Не желая никого обидеть, надо сказать, что ныне не так уж много авторов и произведений, по которым можно судить о наших нравах. Ведь мы даже о социализме, то есть о родном доме своем, научились писать так, что его трудно узнать — настолько он в наших книгах и учебных трактатах прибран, а жизнь в нем упорядочена и хорошо организована. Как на станциях нашего метро, где всегда чисто, никто не бросает окурков, люди даже в час пик стоят справа, проходят слева, и поезда никогда не опаздывают. Мы будто бы боимся вторжения живой жизни со всей ее многосложностью, многообразием, непредсказуемостью. Гладкость, когда не за что зацепиться чувством и мыслью, в описании нравов особенно заметна. По одной только этой причине существенная часть реальной жизни выпадает из поля зрения искусства. А можно не сглаживать и не мельчить — и тогда появляются такие строки:
Мы все живем как будто, но
Не будоражат нас давно
Ни паровозные свистки,
Ни пароходные гудки.
Иные — те, кому дано,
Стремятся вглубь и видят дно,
Но как навозные жуки
И мелководные мальки...
Средь суеты и кутерьмы,
Ах, как давно мы не прямы:
То гнемся бить поклоны впрок,
А то завязывать шнурок...
По Высоцкому можно изучать практическую нравственность и судить о морали — и о личной, и об общественной. И о том, почему обе эти сферы часто так причудливо, смешно или печально соединяются. Человек может быть хорошим работником и, простите, не очень, порой совсем неумным. А как вам нравятся неумные борцы против частнособственнического инстинкта, выраженного в личном автомобиле или огороде? Есть и такие, что могут «одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря». Или такие, как «Борис Буткеев из Краснодара», уверенный, что «бить по лицу» можно — была бы сила, было бы желание. А толпа, забросавшая Кассандру камнями только за то, что она говорила правду? А «страсти-мордасти» семейные, служебные, спортивные?! Все это интересует Высоцкого и находит в нем отклик. Чаще он мягко, с пониманием внутренней подоплеки явления или события иронизирует, вышучивает, нередко высмеивает, а иногда — это когда глупость, невежество, хамство воинственны, непроходимы — открыто и зло издевается. Узнаваемость вышучиваемых или обличаемых явлений такова, что вслух никто не отваживается возразить, оспорить, обидеться: Высоцкий любит человека, всегда старается его понять и готов (далеко не всегда!) простить, но он никогда ему не льстит, не угождает. Люди это чувствуют и отвечают ему взаимностью. Виктор Шкловский был прав: люди слушают Высоцкого и вспоминают, что они люди. А что касается узнаваемости, то нравственно сильному и развитому человеку, как и целому обществу, познать и узнать себя всегда полезно. Нравственный человек живет не мнением о себе и не самомнением, а правдой, то есть тем, что он представляет собой на самом деле. И воспитание прочно, надежно, когда воспитывают правдой.
Настойчиво и терпеливо «приставал» к нам Высоцкий с вопросами, от которых в суете своей мы часто бежим, отмахиваемся (далеко не всегда из-за недостатка времени, как себя утешаем). Скажете: преувеличение, Высоцкому и в голову не приходило ставить перед собой такие вселенские задачи. Но объясните тогда, почему в который уже раз возникает потребность послушать хорошо знакомые мелодии и прислушаться к тому, о чем поет этот «хрипун», пытаясь достучаться до каждого из нас и, пробудив душу, мысль, гражданское чувство, вызвать ответную реакцию, понимание, действие... Поэтому надо пойти чуточку дальше и попытаться отыскать истоки личной причастности поэта-барда, найти ту самую почву, что помогла ему среди «нехоженых путей» найти свой, столь отличный от других.
* * *
Наверное, это самый трудный, но и самый интересный вопрос — о противоречивой природе творчества Высоцкого. Отвечая на него, нельзя переводить разговор только в плоскость противоречий восприятия и оценок его стихов и песен или выяснения духовной структуры самого поэта. Хотя об этом тоже и можно, и нужно говорить. Можно, например, без особого труда выделить более и менее удачные произведения, указать на слабые в поэтическом отношении строки — и при этом мало что сказать и ч доказать по существу (откройте томик стихов любого хорошего, даже именитого поэта, и вы найдете слабые, недостаточно выразительные, проходные вещи). Разумеется, это важно, кто и за что именно не принимает Высоцкого. Но даже самый объективный анализ достоинств и недостатков личности и творчества поэта не объяснит, почему в нем, как и вообще в талантливых людях, ярких личностях, встречается (и прощается) такое, с чем теоретически смириться бывает трудно. А как быть с причудами и каверзами восприятия, когда одно и то же явление разные люди любят за разное?..
Каждый из затронутых вопросов серьезен, может стать предметом особого рассмотрения. Но это будет разговор о противоречиях творчества на уровне «следствий», констатации, не затрагивающих объективного основания исследуемого явления. Потому что настоящий, состоявшийся художник стягивает на себя противоречия времени, его породившего. И поскольку это так — не надо сводить вопрос о том, что можно увидеть в зеркале творчества Высоцкого, лишь к сумме неудачных произведений или заблуждений художника.
Какое же противоречие времени — нашего с вами, читатель, времени — острейшим образом ощутил, как бы вобрал в себя и выразил своим творчеством Владимир Высоцкий? Кратко можно ответить: это протест художника против разрыва единства слова и дела. Ныне, когда эта проблема обсуждается общественностью откровенно и всесторонне, следовало бы по достоинству оценить социальную чуткость таланта Высоцкого. Вслушайтесь внимательней в тревожную интонацию и мысль многих его песен, они буквально пронизаны неприятием ситуации, когда слова, дорогие оплаченными за них лишениями, а то и кровью, теряют свое реальное содержание, начинают обесцениваться, а дела нередко не соответствуют словам, в которые они облекаются и освящаются. Поэта волнует также состояние, при котором для многих членов общества снижается, а то и утрачивается жизненная, практическая значимость определенных социальных норм, ценностей и эталонов, и они оказываются в неопределенном («деклассированном») положении, становясь пленниками бездуховного образа жизни, мелкотравчатого стяжательства или эгоистического своеволия.
Продолжая лучшую традицию нашего искусства, сильного своей заботой о духовном состоянии и нравственной силе общества, Высоцкий буквально взывает к нашей совести и чувству достоинства. Гражданское мужество поэта сказалось не только в беспощадной правдивости, с какой он говорит о нас и наших проблемах, но и в том, что говорит он это всегда открыто, прямо, недвусмысленно. Высоцкий приучил нас слушать и слышать нелицеприятные, иногда болезненно острые вещи, но он никогда не был поставщиком политической клубнички. Иначе он сам послужил бы иллюстрацией ненавистного ему разрыва между словом и делом. Одно дело — писать эпиграммы, рассказывать анекдоты, почти всегда • анонимные, от которых всегда можно при случае отказаться (я, мол, не автор, всего лишь ретранслятор), и совсем другое дело — всегда и везде петь своим голосом, свои песни, говорить от имени собственного «я».
Этим качеством своего дарования Высоцкий очень близок нашей русской культуре, в которой всегда была сильна традиция правдоискательства. Обладая высокой общественной ценностью, она оказывала благотворное влияние всякий раз, когда искусство по тем или иным причинам начинало тяготеть к эстетству, развлекательности или морализаторству и образовывалась своеобразная ниша, в которую постепенно стекались «думы народные». Вот это доброе русское слово «думы», видимо, больше всего подходит к творчеству Высоцкого.
Социальная значимость поэзии Высоцкого определяется не только ее конкретным, идейно-тематическим содержанием и не только особым отношением к ней многих слушателей, читателей, о чем уже шла речь. В общественное сознание поэзия входит, как известно, не тематикой и суммой идей, а художественным образом действительности, созданным поэтом и ставшим его вселенной. Такая «вселенскость» есть у каждого большого художника. Совсем немного прожил в литературе Василий Шукшин, но успел создать и оставить нам свою вселенную, где Россия наших дней предстала во всей своеобычности, абсолютной непохожести на все, что мы до сих пор о ней знали и читали. Существует и вселенная — страна Владимира Высоцкого, в которой живут очень знакомые и в то же время диковинные в своих самых обычных свойствах и проявлениях люди, обладающие неистребимой тягой к самопознанию и способные к духовному озарению. В этой стране все интересно, необычно, неожиданно...
Что же касается своеобразия самого духовного воздействия песенного творчества Высоцкого, то я вижу его в том, что он является певцом жизни, воспринятой и понятой как драматическое существование. Чего бы он ни касался в своем песенном, поэтическом творчестве — войны, любви, профессии, отношений людей, — все. буквально все у него пронизано и пропитано высоким драматизмом. То есть все сложно, напряжено, накалено, конфликтно и чревато «разрешением от бремени» противоречий, все требует от человека поступка и страсти, чтобы подтвердить свою жизненность, право на существование. Все его песни — и печальные, и смешные, шуточные и патетические — полны, насыщены драматическим мироощущением. В них жизнь — и самая обыкновенная, состоящая из всем знакомых, привычных обязанностей, волнений и тревог, и так называемая необыкновенная, предполагающая события и поступки не рядовые, связанные с преодолением серьезных препятствий, требующие от личности сосредоточенности, принципиальности, — жизнь вообще оказывается и не простой, и совсем не легкой. Прожить жизнь осмысленно, бодро, достойно — «не поле перейти», для этого нужны мужество и отвага на каждый день. Короче, жизнь драматична по существу своему, как говорится, в принципе.
Понятие драматического применимо к характеристике творчества художника и в том широком смысле, в каком оно использовалось Шекспиром и Марксом, для которых сама человеческая история, общественная жизнь развертывается как драма, где люди выступают одновременно авторами и актерами. При таком понимании драматическое есть признак общественной развитости и цивилизованности человеческого бытия. Положительно даже само ощущение быстротечности, «мимолетности» жизни, ибо она только тогда и жизнь, когда ни на мгновение не прерывается, не прекращается процесс ее самообновления, что невозможно без борьбы, преодоления вчерашнего, отживающего, без разрешения постоянно возникающих коллизий. Поистине «покой нам только снится»...
Впрочем, не только снится. Беда в том, что, разыгрывая собственную драму, именуемую жизнью, мы то и дело тянемся к покою, впадаем в состояние самоуспокоенности или того хуже — самодовольства. Либо просто сторонимся всего, что потребует от нас дополнительных усилий, напряжения — мыслительного или волевого, готовности пойти на риск, взять на себя ответственность. Редко кому удается прожить жизнь, не поддавшись хотя бы однажды «соблазнам» обывательского существования. Звучит обидно, но не для человека с развитым самосознанием, ответственного, способного посмотреть на себя «со стороны», глазами других людей. Как ни прискорбно сознавать и признавать, но это реальный факт: существует слой людей, и он ширится, все откровеннее заявляя свои претензии и вкусы, для которого требование «хлеба и зрелищ» является пределом общественного бытия. Довольные собой, они всегда недовольны обстоятельствами, которые сводятся в основном лишь к удобству, комфорту, времяпрепровождению. Это они, наполнив холодильники продуктами и не ведая дефицита ни в чем, скучают на так называемых трудных фильмах и спектаклях, жаждут бездумного развлечения. Они не хотят и уже давно отвыкли волноваться, переживать даже в зрительном зале, отучившись плакать, обливаться слезами над вымышленными судьбами героев произведений литературы и искусства. Им подай что-нибудь этакое, «отвлекающее», «расслабляющее», «антистрессовое». Когда им что-то непонятно или делается скучно, виноват обязательно художник. Вот они и хотели бы прибрать к своим рукам Высоцкого, как когда-то они пытались это сделать с Сергеем Есениным, превращая его прекрасные стихи в ресторанные шлягеры. (Почему пытались? Продолжают и сегодня это делать, и, надо признать, почти беспрепятственно.) Они «крутят Высоцкого» под полупьяный разговор, шум вилок, ножей и девичий визг, даже не делая попыток вслушаться и понять, о чем тот поет, почему надрывается, стонет, кричит, взывая к нам: «Что делаем?», «Как живем?». Это они пытаются по сей день превратить его в явление модное, всего лишь популярное, и жаль, что находятся серьезные люди, не разобравшиеся в сути феномена Высоцкого и так легко (я бы сказал, легкомысленно) отдающие его на откуп современным мещанам.
До недавнего времени я удивлялся и досадовал, наблюдая, как популярнейшая эстрадная певица (обладательница редкого дарования и завидного по умению настоять на своем характера) выходила на сцену, видимо, всерьез не задумываясь над тем, как она выглядит «со стороны», смотрится глазами других людей. Прическа и излишества косметики, подчеркнуто «свободная» манера общения и поведения, когда раскованность трудно отличить от вульгарности, дурной «простоты», странное несоответствие «форсмажорной» подачи песни и пустоты ее поэтического смысла — все это, казалось мне, результат отсутствия режиссуры, в которой актеры эстрадных жанров нуждаются не меньше (больше!) драматических и оперных актеров. Короче, мне казалось, что проблема эта сугубо организационно-творческая. Теперь я думаю иначе. На такое поведение и исполнение, судя по всему, имеется спрос, который и здесь, в сфере духовного производства, рождает предложение. Зал и телеаудитория очень неоднородны, и достаточно много набирается зрителей-слушателей, которым все это нравится, а певица знает, что она, такая вот «свойская», «раскованная», «свободная», нравится как раз тем, кто, не стесняясь, громко заявляет о своих вкусах и требованиях (неизвестно только, сознает ли сама певица, что она вроде и «за» и «над» теми, кто ей внимает, но все-таки не впереди).
У мещанской части любителей стихов и песен, видимо, есть и свой Высоцкий. Им больше нравится, когда он поет про «красное, зеленое, желтое, лиловое», или про Нинку, которая «сегодня соглашается», или о водке, что была не на троих, а на одного, про «зк Васильева и Петрова зк» и т. п. Это они организовали психоз вокруг Высоцкого — ненормальное, чисто ажиотажное, поверхностно-тенденциозное восприятие и толкование его песен как чего-то запретного. Я бы назвал его психозом двусмысленности. Скажем, такую серьезную песню, как «Колея», они выворачивают на свой лад: она для них не о том, что каждый ответствен за свою индивидуальность, за реализацию своего личностного начала, а о том, что «кто-то» хочет обязательно всех загнать в «общую колею». Прекрасную песню «Мы вращаем землю» они не заметят и не запоют, зато «Рыжую шалаву» выучат наизусть и заиграют до обалдения. Есть среди них и такие, для которых Высоцкий весь состоит из намеков и иллюзий, мало связанных с действительным содержанием его стихов-песен. Это они при жизни поэта распустили слухи, что он «уехал» или вот-вот «уедет», заставив его с гневной иронией ответить: «Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь — я не уеду». Высоцкий недоступен им прежде всего в силу поразительной цельности и принципиальности своей жизненной и художнической позиции, которую не могли изменить с годами никакие заграничные впечатления и перемены в личной жизни *. Но обыватели потому и обыватели, что даже высокое, бескорыстное само по себе они обязательно подтянут к своему уровню, опустят до своего миропонимания.
Попутно заметим, что невнимание к сфере так называемой неофициальной жизни людей порождает проблемы идеологического порядка, которых могло бы и не быть. Например, неофициальное почему-то нередко (как правило, совершенно безосновательно) воспринимается как нечто оппозиционное, запретное, «не наше», что лучше всего обойти фигурой умолчания. Но люди так уж устроены и так живут, что задаются вопросами и переживают из-за проблем, которые нам, пропагандистам и обществоведам, необязательно известны и понятны, из чего, разумеется, не следует, что эти вопросы и проблемы несерьезны и не имеют жизненного значения. Бывает, «и большое понимаешь через ерунду» (Вл. Маяковский), не говоря уже о быте, в котором надо уметь по-ленински находить, видеть политику. И если представить себе, что в головах людей, как подумал однажды герой одного романа, имеются чердаки, куда они складывают вопросы, на которые боятся или не могут ответить, то задача общественной науки и пропаганды состоит как раз в том, чтобы сделать эти чердаки пустыми. Ведь замалчиваемое, вообще все произносимое шепотом и с оглядкой — излюбленная духовная пища мещан всех времен. Нет, не случайно Высоцкий не раз и не два возвращался к теме слухов, ополчаясь на тех, кто привык жить не знанием и пониманием, а «мнением» и всевозможными домыслами.
От них недалеко ушли мещане, так сказать, интеллектуального пошиба, может быть, самые опасные и страшные. Вроде того студента, что высказался о Высоцком так: «Все понятно, но чего он так нервничает, переживает?» Даже на фоне давно заметного разлада ума и чувства в среде «онаученных» молодых людей подобная демонстрация одномерности собственного мироощущения производит гнетущее впечатление. Здесь незачем умствовать и искать какие-то скрытые, подспудные причины непонимания и неприятия явления, которое буквально пронизано чувством, настояно на переживании. Перед нами старый-престарый знакомец, бог мещанина любой эпохи и общественной формации — равнодушие. Только прикрытое видимостью понимания (время всеобщего среднего образования и науки обязывает!), которого на самом деле нет и быть не может. Мещанам непонятен и чужд именно внутренний, объективный пафос творчества поэта, для которого все внешние явления и события повседневности — это повод и приглашение поговорить о внутреннем, о состоянии нашей духовности и человечности.
Владимир Высоцкий ничего общего (ничего!) с ними не имеет как раз по причине коренного различия в отношении к жизни, в понимании ее смысла. Мало ли кто пытается представить его выразителем «своего» мироощущения и умонастроения! Исходить надо из объективного содержания и пафоса его творчества — антипода обывательского, сонного или полусонного, дремотного, социально инфантильного бытия, лишенного волнений, потрясений, глубины переживаний. Высоцкий не приемлет, презирает саму психологию «устройства жизни» современного мещанина, которому все время приходится ломать голову, беспокоиться не о том, чтобы быть и жить, а как-то выглядеть, казаться. Бегство от драматического содержания жизни вообще подозрительно и свидетельствует о нездоровье физическом или душевном. Чаще всего это признак «прозябающего» бытия, никчемного существования.
Высоцкого интересует само явление обывательства, мещанства. Он создал целую галерею запоминающихся типов, вроде супругов, ведущих диалог о цирке у домашнего телевизора, приятелей-алкоголиков из «Милицейского протокола», склочника или завистника соседа и др. С иронией и сарказмом выразил он вполне определенное отношение к мещанским радостям и заботам. Он и их понимает, стараясь с помощью юмора сохранить объективность в изображении обывательского быта и психологии. Так понять и представить мещанина, как это делает Высоцкий, можно, только находясь вне мещанина, не сливаясь с ним, не разделяя его миропонимания. Не обыватели — носители и выразители его идеала полноценной человеческой жизни. В поэтическом мире поэта-барда в чести те, кто живет не ради утробы и утех, кто живет трудно, мятежно, бескомпромиссно, не идя на сделку с собственной совестью. Ему по душе те, кто выдерживает проверку на прочность в боях за правое дело и обязательно в шторма, в снежную бурю, оказавшись в лесной глухомани среди хищников или в бесконечной степи, где «куда ни глянь — кругом пятьсот». Человек в трудную, ответственную минуту принятия решения, живущий на пределе физических и моральных сил, — вот кто сродни Высоцкому.
Обывателю, скажем, невдомек, отчего это поэт вновь и вновь возвращается к теме войны, в которой он сам не участвовал и помнит по детским впечатлениям. Но если вслушаться и вчувствоваться в его замечательные песни о войне, становится ясно, что им повелевало прежде всего чувство сыновней признательности к подвигу отцов, одолевших фашизм и отвоевавших нам жизнь. А также чувство восхищения, даже зависти к тем, кто «старше нас на четверть века». Ведь им так «повезло — и кровь, и дым, и пот они понюхали, хлебнули, повидали». Есть и другая, пока недооцененная сторона той же самой темы. Она не стареет, не тускнеет еще и потому, что принесенная страной жертва — свыше двадцати миллионов жизней — стала величайшей духовной ценностью. Она, как, может быть, ничто другое, объединяет сегодня — не разумом только, но и чувством, общим сопереживанием — людей разных поколений, побуждая их еще сильнее, крепче полюбить многострадальную землю, на которой *как разрезы, траншеи легли, и воронки, как раны, зияют». Прошло много лет, но продолжает жить и действовать очищающая сила народного страдания, делающая День Победы — символ нашей жизнестойкости, мужества и героизма — Днем человеческого единения. Наконец, писать и петь о войне для послевоенного поколения, к которому принадлежал Высоцкий, — это еще и способ выразить свое отношение к человеческим качествам, жизненным ценностям, какие в мирное время, как правило, проявить, выразить гораздо труднее. Война до предела обострила все отношения и чувства, беспощадно высвечивая, обнажая суть любого жизненного явления. На войне люди предстают и раскрываются часто с обескураживающей даже их самих непосредственностью, прямотой, чистотой, откровенностью. И становится ясно, и кто есть кто, и что есть что. Многих молодых художников по сей день увлекает эта беспощадная правдивость военных будней, не поверхностная героика и не показной оптимизм участвующих в ней масс людей. Правда, во многих фильмах, пьесах и повестях давно уже изображают не войну, что была когда-то, а годами возникавшее представление, легенду о войне как о ристалище человеческого духа. Но, обращаясь к этой теме, можно ставить предельные вопросы бытия, что, собственно, и делает Высоцкий в песнях военного цикла (он назвал их песнями-ассоциациями).
Для Высоцкого нет запретных тем, он безбоязненно, с вызывающей у многих зависть смелостью писал и пел обо всем, что его волновало. Но это свобода, так сказать, обеспеченная нравственно, точным отношением к предмету или явлению. Причем нравственность, которую он сам исповедует и отстаивает, одновременно проста и трудна. Ему нужно, чтобы человек всегда, в любых обстоятельствах был честным, правдивым, справедливым, готовым, как Робин Гуд, прийти на помощь, вступиться за слабых, обиженных. В песне «Я не люблю» прямо и афористично изложен нравственный кодекс его лирического героя, знающего разницу между добром и злом, умеющего сильно любить и так же сильно ненавидеть. Кажется, в том, что не любит, не приемлет Высоцкий, нет никаких откровений. А не любит он «холодного цинизма», «уверенности сытой», «насилья и бессилья», когда что-либо делают «наполовину», устают от жизни и не поют «веселых песен» или, напротив, демонстрируют показную, «манежную» восторженность. Ничего особенного, не правда ли? Но мы-то знаем, как дьявольски трудно не на словах, а наделе соблюсти эти простые нормы нравственности и справедливости, какого постоянства усилий, каждодневной самоотверженности это требует. Нравственность для Высоцкого не какие-то, пусть и очень правильные, отвлеченные принципы, нормы, правила, вознесенные, подобно дамоклову мечу, над человеком. Это сам человек, живущий по внутреннему закону совести, или тот самый двойник, что сидит в каждом из нас и повелевает поступать в согласии с нормами человечности. Если она срослась с человеком, от него самого зависит и выражает его глубинные (в идеале общественно развитые!) потребности, она сила живая, духовно-практическая. Понятая так нравственность немыслима, просто невозможна без принципиальности, то есть характера. Лирический герой Высоцкого нравственно значителен и привлекателен еще и потому, что на такого, как он, можно положиться — этот не подведет, с ним не пропадешь. Нравственность обеспечивается мужским характером — феномен, согласитесь, не самый распространенный в наше время.
Высоцкий не просто фиксирует, передает, отражает драматизм жизни. Он драматичен и сам, по природе своей субъективности, индивидуальности, таланта. Без покоя нельзя, но «тревога — богаче покоя», говорил М. Горький, и Высоцкий как будто решил судьбой своей эту истину подтвердить, доказать. Все, что он сделал, и все, что у него получилось, — это от непокоя, от не покидавшего его чувства тревоги. Драматическое, по словам А. С. Пушкина, связано со «страстями и излияниями души человеческой». В полном соответствии с этим точным наблюдением Высоцкий в пору господства полушепота, с одной стороны, и эстрадной шумливости — с другой, стал говорить и петь «открытым голосом», страстно, надрывно, иногда переходя на крик6. Так, как поют люди у себя дома, в свободной, раскованной, не стесненной строгими правилами обстановке.
Говоря о В. Высоцком, важно подчеркнуть, что он старался соблюдать необходимую меру и в содержании, и в форме, хотя некоторым его слушателям могло казаться (и сейчас кажется), что его исполнение — это примитив и идет от беззастенчивого отношения к идеальным требованиям искусства. И он сам иногда потворствовал такому мнению своими стеснительными признаниями вроде: «Мелодии мои попроще гамм...»
Ныне, когда поэта не стало, начинаешь понимать, что это был сплошной обнаженный нерв. Что жизнь его была самосжиганием, которое, понятно, не может происходить долго. Увы, тот, кто горит, и сгорает быстрее. Я не о том, что не надо себя беречь, не думать о здоровье. Надо и беречь, и думать о здоровье. Но надо понять и тех, кто себя не бережет, кто растрачивает себя, не задумываясь о «фатальном исходе». Когда же мы научимся отличать тех, кто работает, творит, от тех, кто делает что-то похожее, но все-таки, по существу, и не работает, и не творит?! Разница ведь существенная, для общества не малозначащая.
Выскажу мысль, наверняка спорную, в чем-то даже «кощунственную». Бесспорно, Высоцкий ушел рано. Больше всего он боялся, что уйдет и не допоет свою песню. Допел — в том-то и суть дела. Сказал все, что должен сказать человек, чтобы иметь право уйти, оправдав свое появление на «белый свет». Да, он мог бы многое еще написать, сказать. Но и того, что сказал, спел, вполне достаточно, чтобы проникнуться к этому человеку чувством огромной благодарности и искреннего восхищения. Долго еще будет сопровождать людей его хриплый баритон — и в работе, и в любви, и в минуты мужских решений и поступков.