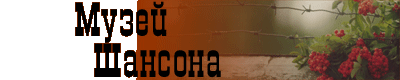«Плохих слов нет - есть плохие люди»
На прошлой неделе открылся Первый московский международный книжный фестиваль: гвоздем программы стал приезд в Москву культового российского писателя и поэта, автора песни «Окурочек» и романов «Николай Николаевич» и «Кенгуру» Юза Алешковского. Свобода, мат и еда — вот три любимые темы Юза. Не обошлось без них и на этот раз
Об Алешковском и языке писали много, научно, пафосно. Не станем повторяться, заметим лишь, что поэт и прозаик Юз (Иосиф Ефимович) Алешковский значительно обогатил нашу речь. Помимо хрестоматийного «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которого и так хватило бы на оправдание целой жизни, он сочинил столько пословиц, поговорок и переиначенных классических цитат, что цитировать их бессмысленно — не хватит журнала. И слава богу. Их нельзя цитировать в журнале, даже либеральном.
Но Алешковский еще и настоящий прозаик, единственный — не считая Войновича — продолжатель традиции сатирического романа в современной русской литературе. И человек большого ума, что признавали другие люди больших умов в диапазоне от Бродского до Макаревича. Как все такие люди, он не высокомерен. Чего ему самоутверждаться за счет окружающих? Он уже самоутвердился, в народ ушел, чего же боле?

— Мы будем разговаривать или трепаться?
— Трепаться, конечно.
— О'кей, поехали.
— Синявский говорил, что идеальный писательский характер во многих отношениях близок к воровскому, блатному. Вы варились в обеих этих средах — это так?
— Андрей Синявский был очень умен, остер и парадоксален. Я любил с ним разговаривать и уважал его по-человечески, но многие его парадоксы хотел бы редуцировать, что ли. Этот — тоже. Не думаю, что у писателя может быть много общего с блатным, потому что в блатном характере есть много чего, в том числе ужасного. Но одно их роднит обязательно, отсюда взаимное уважение и как минимум интерес. Это — авантюризм. Хороший писатель должен быть авантюристом, иметь, так сказать, душок.
— Вас называют — и не без оснований — знатоком языка и даже его «чувствилищем». Что тут без вас делается с нашим языком?
— Вам видней, я живу на отшибе. Вы не представляете, какое наслаждение погружаться в московскую среду, где я не «понимаю» язык — понимаю я английский, — а впитываю его, дышу им, плаваю в нем и т.д. Внешних, поверхностных тенденций вижу две: еще в девяностые началось облатнение языка, что бывает и хорошо, поскольку блатная речь точна, энергична, стилистически ярка; вторая тенденция — заимствования, что тоже хорошо, поскольку язык есть океан, в нем всему находится место и он сам свою биосферу всегда отрегулирует. Я всегда говорил: плохих слов нет — есть плохие люди. Есть и более глубокая тенденция, неочевидная, связанная с тем, что многие люди пользуются не своим языком, их речь неорганична, они говорят так, как принято, и т.д. Русский язык с его бесчисленными и очень разными пластами это заостряет и проявляет, и неорганичность вылезает сразу же. И у государственного человека, говорящего по-блатному, и у блатного, говорящего по-государственному.
— Заметно ли со стороны, что в стране стало меньше, как бы сказать, воздуха?
— Со стороны никакого особого зажима не наблюдается. Власть хочет наводить порядок, но это ведь ее всегдашнее желание. Естественное. Она никогда ничего другого не хочет, и ничего дурного в наведении порядка нет. А вот холуйство — это вещь противоестественная, потому что противостоять этому желанию власти должны нормальные люди, не желающие всегда и во всем соблюдать ранжиры. Этого холуйства я вижу очень много. Русская самоцензура страшнее цензуры. Многие страстно жаждут лизать жопу. К счастью, в русском обществе всегда есть некоторое количество гиперактивных людей, не вполне поддающихся ранжированию. Кстати, я и сам был в молодости такой... гиперактивный. И не знал, что это синдром. Мне казалось, что это свойство характера. Я и в лагерь загремел потому, что мы с друзьями — я служил на флоте — угнали автомобиль секретаря парткома. Не чтоб украсть, а чтоб быстрей доехать, на поезд опаздывали. Кто знал, что это автомобиль секретаря? Нас остановил патруль, мы подрались с патрулем, я размахивал ремнем, кричал «Полундра!»... Получил четыре года. Мог получить меньше, но ушел в глухую несознанку: «Был смертельно пьян, ничего не помню». В лагере было значительно легче, чем во флоте. Во флоте я непрерывно залетал на губу. Армейская дисциплина не для меня совершенно.
— В России сейчас много спорят, кстати, вот и «Огонек» писал: надо ли лечить гиперактивных детей?
— В Америке лечат — и спорят. У меня есть приятель, священник и кандидат физматнаук...
— Частое, кстати, сочетание.
— Да. И у него сын. Как раз с гиперактивностью. Был жуткий совершенно ребенок. Пропил курс таблеток. Потом отец сказал: хватит, он стал какой-то вялый. И таблетки отменил. Но ребенку они уже помогли — это стал отличный парень. Они живут в Штатах, но его очень почему-то тянет в Россию, это лето он проведет в русской деревне. Я вот только что с ним общался, когда к его отцу ездил — это в четырех часах езды от нас — за березовыми вениками.
— Зачем вам там веники?
— Париться, естественно.
— Где?
— Я выстроил у себя в Мидлтауне баню. То есть это некорректно — выстроил. Ее строил мой друг, мастер золотые руки, специалист по реставрации старинных музыкальных инструментов. Баня, думаю, самая низкоквалифицированная работа, которую ему случилось выполнять в жизни. Я был у него на посылках, сверлил дрелью дырки, где он говорил, и забивал гвозди. Теперь у меня вообще совсем Россия. Огромный луг. Озеро. Банька на берегу. Дубы с трехэтажный дом высотой. Вру, не совсем Россия. Больше похоже на Западную Украину или на русский юг. В лесу плюща много, ядовитого, ненавижу его. Березы есть, но черные, это совсем не тот запах.
— Ничего, я закурю?
— Не надо бы лучше. Я курил 30 лет, с десятилетнего возраста. И не курю уже гораздо дольше. В 6д-м году вдруг как отрезало, началось что-то вроде аллергии на табак. Весь рот от него стягивает. Я почему уехал-то из России? Я боялся, что меня посадят. Пихнут в общую камеру. Там все будут курить. И я от своей аллергии задохнусь.
— За что вас было сажать? «Николай Николаевич» — невиннейшая вещь. И очень советская, в смысле патриотическая, по-моему...
— Нет, она не советская, конечно, но и не антисоветская, если не считать рассуждения об антинаучности. Но у меня тогда были и другие книжки — «Кенгуру», в которой сатиризация советского строя дошла до гротеска, и «Рука», за которую мне точно дали бы лет 15. За меньшее давали 20. Хотя они меня почему-то не трогали, и я даже догадываюсь почему. Им нравилось. Что песни они пели — там, в ЦК, — и меня, и Галича, и Высоцкого, это все знали. Ну а что ж они, не люди? У меня в «Руке» был лозунг — «Свободу Политбюро!». Эту свободу они могли себе позволить, а в остальном жили не привольнее остальных. Однажды в Штатах я зашел в магазин русской книги, а там как раз делегация. Советская. Меня им представили. Одна женщина партийного вида подошла и специально сказала заговорщическим тоном: «Спасибо за ваши книги». Наверное, благодаря таким женщинам меня и терпели.
— А что такого крамольного в «Руке»? Веселая, милая книга...
— Ну да, если не считать того, что в ней предсказывался крах системы. Кстати, это предсказание сейчас понемногу сбывается, с большим опозданием. Я описывал разрушение всего этого по китайскому варианту, к которому, насколько я понимаю, все сейчас относительно мирно сползает. В Китае ведь как? Я там недавно был. Читать можно все. Мандельштама, Хренама, Набокова, Хренокова. Интернет, правда, под контролем государства, но доступен. Лозунги все остались коммунистические. Плюс экономическая свобода. С бл... борются, потому что они, по их мнению, заражают нацию. И так думает не только начальство, а и просто люди. В «Руке» как раз такой вариант и был описан — «Славу КПСС» оставляем, тем более что всем давно насрать на эту славу, а инициативным и умным даем зеленый свет. Если бы с самого начала пошло по этому сценарию, было бы много лучше.
— Религиозность — это для вас признак ума или наоборот?
— Религиозность никакого отношения куму не имеет. Это глубочайший инстинкт, а все споры о нем происходят от нашего разума. Разум завистлив. Зависть эта понятна: ум смертен, а душа — нет. Заметьте, о смерти вам всегда говорит ум. Душа верит, что она вечна, просто верит, знает, эту веру не надо доказывать. Поэтому душа, как правило, ничего не боится. Страхи ей нашептывает все тот же разум. Он расчетлив, осторожен, потому что опять-таки не вечен. Без него не прожить, а как бы хорошо было. Но он нужен в мире, потому что мир никогда не станет царством Божьим. Лани не возлягут с тиграми. И надеяться бросьте. Ну, тут тоже много хорошего.
— Я знаю, вы цените это. Поделитесь опытом: с годами человек больше думает об этом или меньше?
— О чем — об этом?

— Ну об этом...
— Это — понятие растяжимое. Мы можем думать при этом о конкретной бабе, а можем — о тайнах любви, в которой как ничего не понимали, так и не понимаем. Я, как солдат из анекдота, всегда думаю об этом и всегда о разном. Думаю, я не совсем правильно тратил силы в литературе — надо было меньше заниматься всякими сарказмами насчет советской власти и больше думать об отношениях. Об этом, да.
— Кстати, у вас стих был лирический — как герой мечтает сидеть в туалете, на унитазе, предварительно нагретом возлюбленной, и читать газету о падении власти на Родине...
— Да, в китайском цикле. Буду здесь на вечере читать.
— Тогда ему это казалось верхом гармонии. Ну и как — настала она?
— Друг мой, ну какая гармония? Я же говорю, она здесь невозможна. Но читать о «падении династии», как это названо в стихах, мне было приятно. Я по ней тоски не испытываю. Династия была дерьмо. Людям она сильно мешала, активизировала в них худшее, лучшим не давала ходу. Иное дело, что после ее падения все могло пойти иным путем, более разумным, но Россия ведь страна становящаяся, взрослеющая. До взрослости ей еще о-го-го. На фоне старого Китая, например... Погодите, гиперактивные дети становятся со временем очень приличными людьми.
— Что вам нравится в русской литературе нынешней?
— Я далеко не все знаю. Главной фигурой 90-х, на мой взгляд, был Пелевин, его прозу я полюбил. Главной фигурой сегодня становится Гришковец — несколько более склонный, кажется, угождать публике, но все равно очень талантливый. Массовую беллетристику я никогда читать не мог, но она ведь и не для этого. Она — свидетельство о времени. Многие реалии будут восстанавливаться потом по текстам Марининой, пишущей, кстати, лучше Устиновой, Дашковой, Донцовой... Никого не хочу обижать — эта литература нужна. Великие отражают не столько эпоху, сколько себя. А массовая культура аккумулирует быт.
— Вы много — и аппетитно — писали о своем чревоугодии. Пищевые | пристрастия как-то меняются?
— Я люблю есть и люблю готовить. Меня никто этому не учил, все сам, в детстве: мать на работе, отец на фронте, брат маленький. И тогда я освоил первое свое блюдо — из чего было? — из картошки. Драчены. Я и сейчас это очень люблю. Добавляю цветную капусту...
— Поэт Лев Лосев очень любит.
— Так я его и научил. Я много готовлю, а меняются не столько пристрастия, сколько продукты. Раньше была сайра — о, какая была сайра! Теперь и масло жидкое, и вкус не тот. Главной закуской были рыбные консервы в томате, не знающие себе равных, — нигде в мире так сделать не могли, тайной был этот маринад. Сегодня их нюхать страшно, не то что есть. Вообще советские рыбные консервы были прекрасны — в Штатах с рыбой хуже, даром что с каждой стороны по океану. Там она дороже почему-то. У них копченый лосось в Нью-Йорке по 8о долларов, а в России — по 2о! Я не покупаю, сам солю. Беру сырого лосося, режу спинку вдоль, половину морожу, половину пластаю с солью. Делаю малосольного. Съедается — размораживаю и делаю еще.
А в Москве я ем сосиски главным образом. Ничего, кроме сосисок. В Штатах таких нет, не было и не будет.