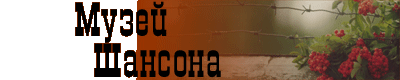Писатель должен сидеть
История отечественной литературы на нарах
Почти все лучшие представители русской литературы не просто имели конфликты с законом (этого хоть отбавляй и у французской, скажем, художественной богемы), но либо ссылались, либо отлучались от церкви, либо приговаривались к покаянию, либо грубо и просто сидели себе в обычной тюрьме «со всякой сволочью», как скорбно выразился один из знаменитейших русских сидельцев Сухово-Кобылин. Некоторых именно тюрьма заставляла писать — как того же Сухово-Кобылина, который только там и насмотрелся на истинные русские порядки. Другие спасались писанием от тоски и страха неизвестности. Михаил Ходорковский, волею судеб оказавшийся центральным публицистом современности (по крайней мере, никого другого не обсуждают с такой страстью), использует писательство как способ ^договориться с властями.
«Тюрьма мне в честь, не в укоризну»
О том, что талантливые люди в России сидели всегда, говорит огромное количество разбойничьих и воровских песен, дошедших до нас века с пятнадцатого-шестнадцатого. В семнадцатом веке раскольник протопоп Аввакум Петров стал автором первой русской художественной автобиографии (1671 — 1673) — потрясающего документа, написанного, «чтобы истинная вера не пропала». После никонианской реформы и последующего раскола Аввакума травили, ссылали, заключали под стражу и в конце концов сожгли. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» осталось недосягаемым образцом исповеди и проповеди — на него ориентировались потом почти все авторы русских тюремных писаний; Аввакум, правда, ни в чем не каялся — кроме того, что иногда роптал на Спасителя («за что таково больно наказываешь?»); впрочем,потом он тут же себя корит за гордыню.
Следующий арестованный писатель — Радищев, автор первого русского тюремного стихотворения, дошедшего до нас. В 1790 году Екатерина милостиво заменила ему смертную казнь бессрочной ссылкой в илимский острог, куда он и отправился за «Путешествие из Петербурга в Москву». Из острога дошли его стихи: «Ты хочешь знать, кто я? что я? куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек...» Из Илима его вернул Александр I, Радищева привлекли даже к законотворчеству — но увидев, что никакой свободы нет и не предвидится, а есть только ширма, к расписыванию которой теперь и его притянули, он выбрал мучительный способ самоубийства: отравился кислотой.
Другое стихотворение, дошедшее из тюрьмы, написал во время следствия декабрист Кон-дратий Рылеев; согласно легенде оно было нацарапано на оловянной тарелке, которую он умудрился выбросить за окно камеры. Трудно судить, насколько это достоверно, но стихотворение явно рылеевское: «Тюрьма мне в честь, не в укоризну,за дело правое я в ней, и мне ль стыдиться сих цепей, когда ношу их за Отчизну!»
Пушкин счастливо избегнул тюрьмы, хотя и был уверен, что Николай I в 1826 году вызвал его из Михайловского именно для нового следствия и отправки в Сибирь. Лермонтову повезло меньше — он отсидел на гауптвахте за дуэль с французом Барантом, но написать ничего не успел, поскольку сравнительно быстро вышел. С января по июнь 1826 года в здании Главного штаба просидел под следствием Грибоедов, но доказать его связь с декабристами так и не удалось. Он по обыкновению отшучивался, и его тюремное стихотворение свободно от пафоса: «По духу времени и вкусу он ненавидел слово раб. За то попался в Главный штаб и был притянут к Иисусу! (то есть дал показания под присягой). Ему не свято ничего, он враг царю, он друг сестрицын... Скажите правду, князь Голицын: уж не повесят ли его?!» — так он изображал светские толки о нем.
Зачем Тургенев утопил Пуму
![[Сроки мотали и Достоевский ...]](http://img.shansonprofi.ru/img/notes/p0121_img01.jpg)
Но по-настоящему сажать писателей стали в последние годы николаевского царствования: в 1852 году был арестован и препровожден «на съезжую» -то есть в изолятор временного содержания, как он тогда назывался — относительно тихий человек Тургенев, которого взяли за довольно бунтарский некролог Гоголю. За Тургенева хлопотала мать, его выслали в родовое имение Спасское-Лутовиново, но за две недели пребывания «на съезжей» он успел написать самое грустное и самое знаменитое свое произведение «Муму». На вопрос о том, почему Герасим все-таки утопил собачку и только потом сбежал от барыни, Тургенев всегда отвечал, что очень уж грустно было автору — вот он и не спас собачку; хотя на самом деле в повести заключался глубочайший смысл — только убив все человеческое в себе, герой оказался способен взбунтоваться.
Из-за Гоголя пострадал и Достоевский. Он всего только читал вслух на одном из собраний кружка петрашевцев письмо Белинского к Гоголю — и был за это в 1849 году приговорен к расстрелу, который ему тоже милостиво заменили четырехлетней каторгой. Это потом он напишет «Записки из Мертвого дома», а на каторге ему было не до литературы. В солдатчине (после освобождения он отбывал еще срок рядовым), в сибирской глуши, среди гарнизонной муштры, желая показать, что с бунтарством покончено навсегда, он отправил прямиком в Третье отделение несколько стихотворений, в том числе оду «На европейские события 1854 года». Типологически это произведение ближе всего к письмам Ходорковского: оно проникнуто несколько экзальтированным государ-ственническим духом. Достоевский обращается к западным державам — союзницам Турции в крымской войне: «Не нравится? На то пеняйте сами! Не шапку же ломать нам перед вами!» Далее он подробно объясн-яет, что возрождение Востока — русское дело («Так Бог велел»), и пророчествует скорый захват Константинополя. Насколько он был искренен — понять трудно: убеждения у него были вполне славянофильские, как и у Ходорковского, говорят, — государствен-нические... Правда, после воинственной оды, не возымевшей действия, Достоевский написал и отослал еще одну — «На заключение мира». Начальство присоединилось к его просьбе о прощении: если ему не разрешат печататься, пусть позволят присвоить хотя бы унтер-офицерский чин! В прапорщики его произвели, печататься не разрешили, и прощен Достоевский был только после вступления на престол Александра II. Хуже всего было то, что слухи о его верноподданнических одах распространились в Петербурге — и многие бывшие друзья не могли простить ему измены идеалам юности; осуждать сидельцев за минуту слабости, за попытку вымолить себе прощение — охотников всегда было полно, особенно среди либеральной интеллигенции, не нюхавшей не только «мертвого дома», но и ссылки в родное имение.
Сидели и Горький, и Чуковский, и Грин, и Маяковский
В шестидесятые годы сажать писателей сделалось любимым занятием властей. Писатели были крепкие и покаянных писем не писали. Писарев, севший в 1862 году на четыре года за статью с призывом немедленно свергнуть царскую семью «и забросать грязью их смердящие трупы», написал в заключении практически все свои главные критические труды — он сидел до 1866 года и продолжал печататься, хотя цензура и уродовала все написанное.
Сиживал и переводчик Михайлов, в тюрьме с блеском перелагавший на русский язык наиболее злые сатиры Гейне. Иногда, правда, люди в заключении сходили с ума: Николай Морозов в одиночке разработал «новую хронологию», на которую опирается теперь академик Фоменко. Обнаружив, что описания нескольких солнечных затмений в исторической литературе явно неверны (затмения не могли наблюдаться в то время и в том месте), Морозов пришел к выводу о глобальной подтасовке всех исторических источников и вышел на волю убежденным противником традиционной историографии. При советской власти его научные заслуги отметили, сделали академиком — но, конечно, не за новую хронологию, а за математику и физику.
С девяностых годов девятнадцатого века в России пересажали и перессылали столько писателей, что надо было оказаться очень бездарным или совсем ленивым, чтобы ни разу не угодить под арест или в ссылку. Горького арестовывали дважды — в 1889 и 1898 году, в 1905-м ему пришлось бежать из страны; в 1898-м он под арестом начал писать «Мещан». Короленко угодил в ссылку еще в студенческие годы. Чуковский угодил под арест в 1906 году за революционный журнал «Сигналы», и адвокат еле добился его оправдания. Грин в ссылке написал блестящие рассказы об ужасах сибирской ссыльной жизни, которую еще Ленин называл тягчайшим из испытаний (кстати, если считать литератором Ленина — он в Шушенском времени зря не терял и наворотил там гигантское «Развитие капитализма в России»,изданное под псевдонимом Н. Ильин. Легенды о чернильницах из булочек и молока, которыми он будто бы пользовался в тюрьме, кажется, не соответствуют действительности).
Именно в тюрьме начал писать стихи Маяковский. В автобиографии «Я сам» он вспоминает, что в 1908 году, когда впервые был арестован и одиннадцать месяцев провел в Бутырке (за распространение прокламаций), он написал целую тетрадь лирических стихов в духе Надсо-на. Хорошо, говорил он, что при выходе тетрадь отобрали — «не то б еще напечатал». Воспоминания о тюрьме у него остались самые мрачные. Можно себе представить, как бы он реагировал на сталинские процессы, если бы дожил до них.
Шаламов и Солженицын «писали» наизусть
![[... и Маяковский ...]](http://img.shansonprofi.ru/img/notes/p0121_img02.jpg)
Советская власть сажала писателей с самого начала, причем без разбору: иногда антисоветчик гулял на свободе, а самый что ни на есть лояльный большевик арестовывался или вовсе шел под расстрел за гипотетическую близость к Троцкому или ругательный отзыв о Сталине во время пьянки.
Возможность писать в заключении была далеко не у всех, а только у бывших «вождей» -Сталину интересно было почитать, что пишут его недавние соперники и противники. Бухарин, сломленный и раздавленный, написал в заключении первые главы автобиографического романа, несколько десятков писем Сталину и цикл лирических стихов, посвященных ему. Читать их невыносимо страшно — автор искренне пытается поверить в то, что гигантская чистка необходима и он своей безвинной гибелью должен послужить делу очищения партии. Именно с покаянными письмами Бухарина чаще всего сравнивают письма Ходорковского, но разница очень существенна: Бухарин кается во всем, страстно, отчаянно — ни о какой торговле речи не идет. Он составил себе целую концепцию: да, убивают невинных, но иначе нельзя построить новое, накрепко спаянное общество. Такими же мотивами оправдывают сталинизм и по сей день; страшнее всего, когда это делает жертва. Покаянных писем не удалось добиться ни от Бабеля, ни от Мейерхольда — напротив, они написали заявления о том, что многих оговорили под пытками. Зато почти все «идейные» писатели, рапповцы, травившие безыдейных «попутчиков», писали покаянные письма Сталину в огромных количествах, признавались в любви, каялись либо в том, что гнобили идейных врагов слишком много, либо в том, что слишком мало...
Иногда литература в заключении губила людей, но чаще спасала. Зэки писателей уважали: например, когда в 1949 году взяли Самуила Галкина — поэта, члена еврейского антифашистского комитета, — в камере его спросили: «Ты кто?» — «Поэт». — «Ну-ка читай, что ты там пишешь!» Галкин до этого тюремных стихов не писал, вообще сочинял на идише, — но тут отчаяние придало ему сил, и он сымпровизировал знаменитую «Дороженьку», вошедшую в тюремный фольклор: «Есть дороженька одна от порога до окна, от окна и до порога — вот и вся моя дорога. Все по ней хожу, хожу — ей про горе расскажу, расскажу про все тревоги той дороженьке-дороге...» Ахматова плакала, рассказывая друзьям эту историю.
Те, кто попадал на Колыму или в Воркуту, чаще всего лишены были возможности писать. Шаламов на Колыме запоминал стихи наизусть, Солженицын затвердил на память поэму, пьесу и множество небольших стихотворений. Многие годы, до самого освобождения, держал в голове свой эпос о плене, а потом о лагере великолепный русский поэт и художник Юрий Грунин, о судьбе которого «Собеседник» первым рассказал в 1999 году. Но самая фантастическая история о творчестве в заключении — это, конечно, история романа Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты», любимой книги советских школьников, лучшего советского пиратского романа. Штильмарк был арестован за месяц до конца войны, как и Солженицын. Сидел в Сибири, на Енисее. Бригадир Василевский, к литературе никакого отношения не имевший, матерый зэк с тремя судимостями, царь и бог на зоне, слышал от кого-то, что Сталин любит читать исторические романы. В голове его засела идея: надо написать исторический роман, его простят, он прославится! Он освободил Штиль-марка от всех работ и засадил писать исторический роман о чем угодно. Штильмарк выбрал Англию семнадцатого века, которую более-менее себе представлял. Весь роман был написан за три месяца! Василевский его изъял, а Штильмарка вернул на общие работы. Книгу, конечно, никто тогда печатать не стал, а в пятьдесят восьмом (Штильмарк уже два года как был реабилитирован и вернулся в Москву) Василевский разыскал его. Он предложил вернуть рукопись в обмен на обещание издать книгу... под двумя именами! Штильмарк пошел на это, написав идиллическое предисловие о том, как они с соавтором сочиняли роман вдвоем на далеком Севере, в геологической партии... Только при переизданиях Штильмарк добился того, чтобы фамилия бригадира исчезла с обложки.
В шестидесятые годы посадка писателей была обычным делом — дорогу им проложили Синявский и Даниэль. Обоих арестовали за публикации за рубежом, хотя опубликованные тексты по перестроечным временам казались довольно невинными — социальная фантастика, гротеск... Даниэль в заключении написал превосходную поэму «А в это время» и десятки лирических стихов потрясающей силы, Синявский в письмах к жене (писать разрешалось дважды в месяц) передал на волю «Прогулки с Пушкиным». «Прогулки» он писал в шестьдесят седьмом, а с шестьдесят восьмого по семьдесят второй — когда жене удалось добиться его досрочного освобождения — отправлял в многостраничных, убористым почерком писанных эпистолах заметки о фольклоре, о русском характере, о лагерной и советской психологии — из всего этого получилась потом книга
«Голос из хора». Юрий Галанс-ков, один из составителей «Белой книги» о деле Синявского и Даниэля, был поэтом. Он умер в лагере. Вскоре после лагеря, оставив пронзительный цикл лирических стихов, покончил с собой диссидент Илья Габай. Умер в эмиграции, в Париже, Вадим Делоне, написавший в лагере несколько десятков стихов и оставивший книгу воспоминаний «Портреты в колючей раме». Множество «гариков» сочинил в лагере Игорь Губерман, написавший о своем сидении книгу иронической прозы «Прогулки вокруг барака».
Были среди зэков и самодеятельные поэты — стихи их по большей части остались анонимными. Лишь один настоящий «русский Вийон», как называют его все пишущие о нем, стал широко известен — это Сергей Чудаков, поэт удивительной силы и авангардной сложности. Из крупных поэтов в шестидесятые годы сидел один Бродский — он оставил замечательные тюремные стихи, а в ссылке написал едва ли не лучшее из раннего: «Песни счастливой зимы», «Новые стансы к Августе», «В деревне Бог живет не по углам»... Время ссылки он вспоминал с удовольствием, подчеркивая, что запрещает себя жалеть. Напротив, он гордился тем, что идет на работу одновременно со всей страной: «Было в этом что-то величественное». Никаких доказательств лояльности он властям не дал — ни одно из его стихотворений, написанных в 1962 — 1964 годах, не годилось в качестве доказательства раскаяния, и на родине он напечатал в результате только стихи «На смерть Элиота». Остальное вышло на Западе, куда он и уехал в 1972 году.
Покаяние перед питературолюбивой родиной
![[... и Солженицын ...]](http://img.shansonprofi.ru/img/notes/p0121_img04.jpg)
Что касается покаянных писем, то эта традиция в русской литературе как раз не очень богата. Писали для того, чтобы не кануть в небытие. Для того, чтобы оставить потомкам правду о себе и о чудовищных условиях содержания в российских тюрьмах. Обобщали свой нравственный и художественный опыт — как Оскар Уайльд в тюремной исповеди «De profundis». Призывали бороться и не сдаваться, как Анджела Дэвис. Но покаяния — жанр редкий. Андрей Синявский издевательски рассказывал о том, что кающемуся тут же изменяет художественный вкус. «Дмитрий Дудко, — рассказывал он, — был в начале семидесятых арестован за религиозную пропаганду. Он покаялся, написав в своем письме о том, что признает правоту государства, — он вообще государственник, славянофил. Его покаянная статья называлась «С русской Голгофы». Человек, утративший этический слух, тут же утрачивает и эстетический: ведь получается-то по звуку — «Сру с Голгофы»!
Волну депрессии вызвало в обществе раскаяние П. Якира и Л. Красина — двух виднейших диссидентов, подвергнутых в 1972 году тяжелому, выматывающему шантажу. Их шантажировали судьбой близких — хуже этого ничего не бывает. Покаяние Якира и Красина было одной из причин депрессии Ильи Габая, приведшей его к самоубийству. Некоторые диссиденты уверились в том, что «борьба безнадежна». Покаяние сломило жизнь и Красину, и Якиру. Власть, однако, была очень довольна. Покаянное письмо с осуждением своей диссидентской деятельности вынужден 6ыл написать и подпольный писатель, участник группы «Каталог» Евгений Козловский — это случилось уже на излете 1983 года, при последних судорогах советской власти.
Советская власть, однако, сдохла, а российская карма оказалась неизменна. При Ельцине сидела (но, к счастью, через полтора года вышла на волю) Алина Витухновская, из которой выбивали показания на ее друзей из «золотой молодежи» — искали компромат на знатных папаш. Витухновская никого не сдала. Ее тюремные стихи привлекли к ней общее внимание — хороши они или плохи, но сила духа в них налицо. В путинские времена был арестован Эдуард Лимонов. Он написал в заключении семь мощных книг, некоторые из них («Книгу воды» и «Другую Россию») считают самыми сильными из всего им опубликованного. После долгого перерыва в тюрьме он вернулся к лирической поэзии, посвятив своей нынешней жене, двадцатидвухлетней Насте, стихотворение о том, как после его освобождения они вместе пойдут в зоопарк: «Чего-то вы невеселы, товарищ панк! Для маленькой прогулки не взять ли нам ли танк? Мы купим сорок пачек ванильных эскимо. От зависти заплачут все, кто пройдут мимо».
Ходорковский держался долго, но в конце концов вынужден был обратиться к эпистолярному жанру — последнему прибежищу русской политики. Его первое письмо написано без его участия, лишь с учетом пожеланий, которые он высказал через адвокатов; в числе его возможных авторов называют Станислава Белковского, который, естественно, отрицает свою причастность к появлению письма, но горячо одобряет его содержание. Второе письмо Ходорковский продиктовал адвокату лично. Там и содержатся страшные слова: «Простите нас, если можете, дайте возможность исправиться, мы знаем, как»...
Пока российские олигархи надеются, что им дадут исправиться так, как знают они. Надежды на это мало. У литературы вообще есть странная особенность: она почти никогда не достигает своих практических целей. Аввакум не спас раскольников от вымирания — старая вера была обречена. Бухарин не разжалобил Сталина. Достоевский не добился льгот и послаблений. Диссиденты не свалили советскую власть (она сама рухнула, без всякого их участия, — это доказывается тем, что победили-то совсем не они). Мандельштам, написавший в ссылке «Оду» Сталину, не смог ее даже напечатать.
У литературы другая функция. Она не изменяет мир, но оставляет свидетельства. И это главное. Свидетельства эти лучше исторических документов рассказывают о том, как в России умеют давить на людей. И о том, как эти люди умеют — или не умеют — выдерживать такую любовь своей литературолюбивой родины.
![[... и примкнувший к ним Ходорковский]](http://img.shansonprofi.ru/img/notes/p0121_img03.jpg)